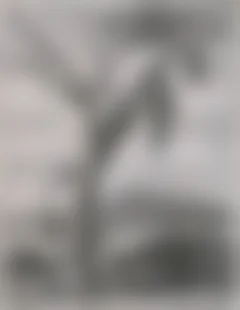Суета — явление новое. Еще век назад москвичи жили в темпе дорожного дилижанса и никуда особо не гнались. Тот, кто спешил, выглядел подозрительно: либо опаздывает, либо скрывается.
Настоящий горожанин передвигался степенно, с чувством собственного достоинства и запасом во времени. Москва жила в режиме медленного прогрева, и даже на работу выходили, чтобы не прийти, а побыть в пути.

РИА Новости
Первый сбой в этом ритме дала конка. Она шла с той же скоростью, что и зевающий пешеход, но пугала лошадей, детей и представления о вечном. Люди начали подстраиваться под расписание, впервые задумавшись: «А что, если не успею?».
Дальше — больше. Трамвай. Электрический, шумный, современный. Он не просто ехал, он символизировал ускорение эпохи. И с ним пришел новый тип поведения: ждать, рассчитывать, догонять. Подчеркнуто деловой человек начал сверяться не с солнцем, а с минутной стрелкой.
Когда в 1935 году запустили метро, оно ввело еще более радикальные правила. Здесь не стояли, а двигались. Не прогуливались, а шли потоком. Станции были мраморными, но времени на разглядывание не было — поезд приходил через минуту, и надо было в него успеть. Именно тогда в московской походке впервые появилась суета — вежливая, деловая, слегка раздраженная. Затерявшийся в толпе человек впервые услышал: «Вы проходите или стоите?».

ТАСС

М.Зак / РИА Новости
Послевоенные годы закрепили этот темп. На работу, в очередь, за колбасой, обратно — всё по стрелке секундомера. Москвич шел быстро не потому, что хотел, а потому что так было принято. Это и сформировало тот самый узнаваемый стиль: шаг резкий, взгляд мимо всех, рука у поручня, ответ — из трех слов, не больше.
Поколения сменялись, и вместе с ними трансформировалась походка. Москвич шел не просто быстро, он шел с упреком в шаге. «Ты мешаешь», — это не фраза, это взгляд. Даже когда никто никуда не опаздывает — все равно бегут. Просто чтобы не быть тем, кто идет медленно.
А дальше — автобусы, маршрутки, пробки, электрички, монорельс, МЦК, МЦД, такси с приложением. Город становился все более многослойным, как торт «Наполеон», только без времени на чай. Москвич учился не просто спешить, он учился рассчитывать, переключаться, пересаживаться, втискиваться, менять маршрут на лету. Успевать не в смысле «прийти», а в смысле «не отстать».

Валентин Соболев / ТАСС
Сегодня все дошло до того, что, если вы не идете быстро — вас снесут. Люди, эскалаторы, алгоритмы — все движется по внутреннему расписанию. Промедление — грех. Опоздание — вина. Тишина — подозрение. Даже те, кто никуда не спешит, делают вид, что идут с делом. У московской спешки давно нет цели. Она стала частью походки.
Так Москва училась спешить. Не сразу, неохотно, но бесповоротно. Сначала — чтобы успеть. Потом — чтобы не отстать. Теперь — просто потому, что все так делают.