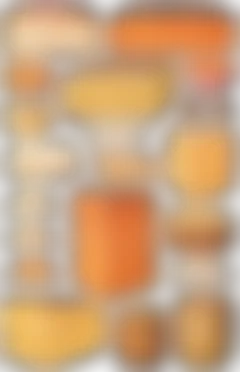В годы Великой Отечественной военные корреспонденты шли в атаку рядом с бойцами и нередко разделяли судьбу героев своих репортажей. Заметки с фронта присылали и журналисты, и литераторы первой величины, и простые писатели. Многие не вернулись домой. Но все они оставили после себя правдивые строки и уникальные кадры, из которых складывается портрет защитника родины. К 80-летию Победы ЧТИВО отдает дань уважения легендарным военкорам, тем, кто сохранил для нас память о бессмертном подвиге народа.
Борис Николаевич Кампов родился 17 марта 1908 года в Москве в семье юриста и «докторши». Но эта фамилия не слишком известна. Произведения начинающего писателя и журналиста, вышедшего из рабочих тверской текстильной фабрики «Пролетарка», тоже не сильно знамениты. Хотя первую корреспонденцию он опубликовал уже в шестом классе в газете «Тверская правда», а в 1927-м выпустил книгу «Мемуары вшивого человека», сборник очерков, написанных после того, как чекисты внедрили его в городскую криминальную среду.
Совсем другое дело — фамилия Полевой: Герой Социалистического Труда, кавалер трех орденов Ленина, дважды лауреат Сталинской премии. А между тем, это один и тот же человек.

Яков Берлинер / РИА Новости
Из отступления в наступление
Псевдоним Полевой Кампову предложил один из редакторов, услышавший в настоящей фамилии писателя латинское campus, «поле». Полевой всегда придерживался принципа: лучшие герои и сюжеты — те, что приходят из самой жизни. Он писал о лесозаготовщиках — сам работал на сплаве. В 1939-м опубликовал повесть «Горячий цех» о стахановском движении. Но вскоре ему пришлось описывать другие сюжеты и других героев: он отправился военкором на советско-финскую. А за ней началась Великая Отечественная.
Поначалу он писал для калининской газеты «Пролетарская правда», а с октября 1941-го — для всесоюзной «Правды». Первой командировкой от нее была поездка под захваченный врагом Калинин (Тверь). Чтобы попасть в штаб бригады, Полевому с военкором Евновичем пришлось переползать через шоссе, простреливаемое немцами. Тогда они отправили в Москву надиктованное полковником Ротмистровым П. А. (будущим маршалом) описание отчаянных оборонительных боев. Но уже через два месяца, 17 декабря 1941 года, из-под пера Полевого вышла статья об освобождении Калинина.

Владимир Гребнев / ТАСС
Борис Николаевич побывал, по его словам, на «самых интересных фронтах». Ему довелось летать на транспортном самолете в немецкий тыл, к партизанам, и на дальнем бомбардировщике бомбить германские города. Во время Сталинградской битвы Полевой находился при 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которая вынесла на себе одни из самых тяжелых боев за город. Писать очерки приходилось из огромной трубы дождевого коллектора, где размещался штаб дивизии. Правда, увидеть сталинградское контрнаступление Борису Николаевичу не довелось: в ноябре 1942-го его перевели на Калининский фронт. «Но ведь там ничего особенного не происходит», — сказал обескураженный военкор, на что получил ответ: «Сегодня не происходит». Начиналось наступление на Великие Луки, оно описано в сборнике очерков Полевого «При штурме Великих Лук».
Советские танки в Праге
Лето 1943-го Полевой провел на северном фасе Курской дуги, на Орловском направлении. Уставший корреспондент мечтал о небольшом отдыхе, но война покоя не знала — вновь перевод, на юг, где вперед двинулся Степной фронт. «Перед нами на фоне голубовато мерцающих меловых холмов встал Белгород — исходная точка немецкого наступления. Даже отсюда, не съезжая с дороги, можно различить несколько мощных оборонительных поясов, концентрическими кольцами прикрывающих город. Это сильные инженерные сооружения, на которые немцы не пожалели ни средств, ни материалов. Мы останавливаем машину и долго ходим по этим пустым укреплениям, на которых городские мальчишки, пасущие коз, играют в войну», — так начинается новый сборник военных дневников Полевого «От Белгорода до Карпат».
Перемещаясь от фронта к фронту, писатель дошел с частями 1-го Украинского до Берлина. Последней в качестве военкора стала для него командировка в Прагу. Советские танки шли к городу, где уже вспыхнуло восстание. Догнать наступающие части, чтобы оперативно сделать репортаж о последней победе, не было никакой возможности, но писатель сумел их перегнать, выпросив у командующего фронтом И. С. Конева разрешение лететь на легком самолете. Как потом говорил сам Полевой, «это был мой последний журналистский цирковой номер». У-2 понес его к чешской столице, обгоняя то советские войска, то бегущие немецкие части. В самой Праге было не так-то просто сесть: где-то еще шли бои, где-то мешали провода. В итоге приземлились на городской стадион — жестко, сломав винт, в 5 часов утра, 9 мая.
Полевой добрался до штаба повстанцев и по их радиостанции стал диктовать сообщение в «Правду». Когда уже заканчивал, добавил финальную новость: «Советские танки вошли в Прагу».

Марк Редькин / ТАСС

Борис Вдовенко / РИА Новости
Нацистские нелюди и Настоящий человек
Борис Полевой сохранил для истории не только подвиги советских войск, но и преступления нацизма. Он стал первым корреспондентом, оказавшимся в Освенциме при его освобождении. «Тысячи людей в странных полосатых одеждах бежали навстречу. Они спотыкались, падали, вскакивали на ноги и снова бежали, задыхались, размахивая руками, смеясь и плача одновременно», — вспоминал Полевой. Глазам писателя предстало то, что он назвал «вершиной изуверской фашистской фантазии», гигантский комбинат смерти, обустроенный для расстрела из пулеметов, умерщвления газом, электрическим током, травли собаками и других способов истреблять людей. Узники с дрожью в голосе произносили имя Рудольфа Хёсса — коменданта Освенцима, сбежавшего от расплаты.
Скрыться Хёссу не удалось — его нашли и арестовали. Судьбе было угодно, чтобы пути коменданта лагеря и Бориса Полевого все же пересеклись: писателю поручили освещать Нюрнбергский процесс. Показания Хёсса, Геринга и других обвиняемых были не для слабонервных. Но прошедшего всю войну корреспондента рассказы нацистских преступников не то чтобы приводили в ужас — ему просто стало противно, захотелось «душевно отвлечься от всей этой фашистской гадости». И тогда он вспомнил о тетрадке, которая с 1943 года так и не пошла в дело. Небольшой очерк когда-то не приняли, посоветовали раскрыть тему подробнее.
Это был рассказ об Алексее Маресьеве, летчике, сбитом, потерявшем обе ноги, но вернувшемся в небо. Полевой виделся с ним один-единственный раз, на Курской дуге. Как-то вечером военкор прибыл на летное поле авиаполка, уничтожившего, как он узнал, двенадцать вражеских самолетов. В разгар боев общаться с писателем ни у кого не было ни времени, ни сил, но его все-таки послали к сбившему двух противников лейтенанту Маресьеву. Уставший после трех вылетов за день летчик-истребитель все же согласился поговорить с газетчиком из «Правды». О том, что его собеседник — инвалид, Полевой узнал случайно: они ночевали в землянке, вдруг раздался странный звук, военкор потянулся за пистолетом. Маресьев расхохотался: «Это мои протезы скрипят!»
Записки, которые оставались невостребованными три года, превратились в готовую книгу всего за 19 дней — к 1 апреля 1946-го. Финала Нюрнбергского процесса писатель не увидел, улетел в Москву готовить повесть к изданию. Книга имела невероятный успех, вышла общим тиражом 10 миллионов экземпляров на 49 языках.

Яков Рюмкин / РИА Новости
Не просто наблюдатель
Полевой написал немало книг на военную тему: «Глубокий тыл», «Мы — советские люди», «Золото», «Эти четыре года» и другие. Свою работу на Нюрнбергском процессе он подытожил сборником дневников «В конце концов». Многие годы Борис Николаевич был главным редактором журнала «Юность», занимал пост председателя правления Советского фонда мира. На вопрос, не мешает ли это литературной деятельности, отвечал: «Только тогда человек может по-настоящему работать в области литературы <…> когда он тесно связан с жизнью. Когда он не просто наблюдатель с блокнотом, а когда он сам участвует по мере возможностей в свершении всего того, что происходит». Умер Борис Полевой 12 июля 1981 года: вопреки рекомендациям врачей, он продолжал литературно-редакторскую работу до последнего дня.