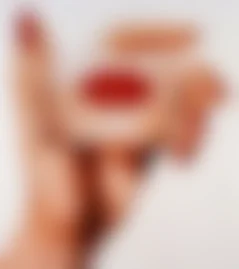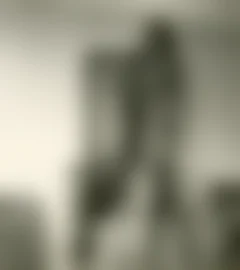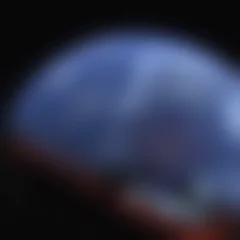Говорящие головы, танцующие скелеты и документальные кадры времен Римской империи. Путешествие Жоржа Мельеса от спутника Земли до дома престарелых.

Collection Christophel / East News
Каждый хоть раз в жизни видел кадр, как луна с человеческим лицом моргает от попавшей в глаз ракеты. Фильм, из которого взят этот эпизод, — «Путешествие на Луну» — дедушка кинофантастики. В далеком 1902 году его снял Мари-Жорж-Жан Мельес. Этот удивительный человек преуспел во многом: режиссер театра и кино, сценарист, актер, иллюзионист, изобретатель, и это еще не все. Он родился в 1861 году в Париже в семье обувного фабриканта. Получив классическое образование в престижном лицее и отслужив в армии, отправился учиться в Лондон, чтобы впоследствии влиться в семейный бизнес и расширить его. Но судьба распорядилась иначе.
Оказавшись вдали от дома, молодой человек увлекся театром, выступлениями иллюзионистов, стал брать уроки у известного в то время фокусника. При этом он старательно трудился на семейной фабрике, которая, по замыслу, должна была перейти ему. Однако родителей очень тревожили побочные увлечения наследника. И прежде всего — страсть к рисованию. Ведь идти в художники в те времена было не только не выгодно материально, но и опасно, в первую очередь для здоровья. Когда поняли, что хорошим промышленником сын не станет по убеждениям, они решили выбирать из двух зол: мольберта и сцены. Разумеется, выбрали меньшее и позволили Жоржу приобрести театр Робер-Удена. На это ушла его доля в семейном бизнесе и приданое жены.
Мельес с головой погрузился в творчество. Он переоборудовал сцену под свои нужды и стал давать представления-превращения, представления-иллюзии, роскошные и не лишенные комизма: профессор терял голову, но она продолжала говорить, дама исчезала непостижимым образом. Сложную технику и механику для этих фокусов Жорж придумывал сам. А еще писал сценарии, изготавливал декорации и автоматоны (механизмы, выполняющие определенные действия), выступал на сцене.

Public Domain
Одно из помещений по соседству с театром арендовал некий Антуан Люмьер. У него было два сына. Сам он занимался фототехникой. Этот человек и пригласил Мельеса на демонстрацию нового изобретения — синематографа. Жорж пришел в восторг. В его спектаклях использовали проекции неподвижных изображений, но чтобы картинка ожила — такого еще никто не видел. Братья Люмьер почему-то отказались продать свое устройство Мельесу. Однако очень скоро появились разные производители кинотехники, и в театре Робер-Удена стали демонстрировать движущиеся по дороге черно-белые экипажи. Публика была в восторге.
Мельес значительно доработал и улучшил кинопроектор, но он не мог повлиять на качество приобретаемых фильмов. И тогда решил снимать сам. Сначала он просто копировал чужие работы. В те годы об интеллектуальных правах еще не задумывались. Вскоре ему это наскучило, и он решил экранизировать свои театральные постановки. Как и многие в то время, Жорж снимал улицы с прохожими и экипажами. Однажды пленку почему-то заело. Не меняя положения камеры на штативе, оператор устранил неисправность и вновь «дал мотор». Когда при монтаже Мельес удалил поврежденный кусок ленты и склеил целые, он не поверил своим глазам: улица та же, здания те же, ракурс тот же, но омнибус превратился в катафалк! Так был открыт стоп-кадр. Будучи фокусником по природе, Жорж решил придумать для кино подобные трюки.
Его ленты поражали воображение: кинозрелище, киноаттракцион, киномагия. Первый такой фильм, «Замок дьявола», он снял в 1896 году. На экране были удивительные исчезновения и превращения, летающие привидения, ожившие скелеты. На студии построили павильон со стеклянными стенами и потолком, ввели строгий распорядок рабочего дня. Снимали только при естественном освещении, с 11 до 15 часов. А когда было темно, Мельес с коллегами писал сценарии, делал бутафорию и костюмы.
Пригодился его опыт художника, хотя декорации были преимущественно черно-белыми, потому что другие цвета непредсказуемо вели себя в кадре. Жорж дал волю фантазии. Он придумывал фоны, которые могли вращаться и создавали иллюзию движения. Делал миниатюры кораблей, воздушных шаров и снимал их так, что они казались настоящими, а камера словно смотрела на них издалека или даже с воздуха. Помимо комбинированных съемок студия удивляла зрителей псевдохрониками. Это была имитация событий, происходивших на самом деле: судебные разбирательства, коронации, военные операции, — но которые нельзя снять по-настоящему, зато можно разыграть. Многие принимали это за чистую монету.
Но больше всего Мельесу нравились монтажные трюки с «размножением» при помощи мультиэкспозиции. На одну и ту же пленку снимали несколько раз, и актер появлялся на экране одновременно со своими «клонами». Четыре одинаковых человека рядом, поющие на столах оторванные головы, оркестр из нескольких Мельесов, сидящих в ряд, — эти наивные фокусы впервые были придуманы им. Набравшись опыта, Жорж взялся за сказочные сюжеты. Такие истории, как «Золушка», идеально подходили для его экспериментов. Яркие миры требовали красок — и фильмы стали цветными. Пленки раскрашивали вручную в мастерской мадемуазель Элизабет Тюилье.

Public Domain
На волне интереса к космической фантастике Мельес решил снять картину по мотивам произведений Жюля Верна и Герберта Уэллса. «Путешествие на Луну» стало его визитной карточкой и апофеозом творчества. В ней маэстро использовал все свои коронные приемы: хитроумные инженерные решения, трюки, монтаж, пиротехнические эффекты, «подводная» съемка. Фильм стал знаменит даже за океаном. К сожалению, сам Мельес получил от проката крайне мало. Дело в том, что тогда авторские права практически не соблюдались, — множились пиратские копии, снимались «ремейки» — по сути, чистый плагиат. Повсюду на экраны выходили фильмы про путешествия на всевозможные планеты с почти одинаковым сюжетом.
Мельес принципиально не обращался к спонсорам, сам был продюсером своих картин. Именно тяга к независимости его и погубила. К тому времени появилось множество киностудий, и они буквально штамповали фильмы с использованием дорогой техники. А компания Мельеса продолжала выпускать свой хендмейд. В 1909 году в Париже состоялся конгресс кинопроизводителей. Флагманы индустрии собрались, чтобы создать свою ассоциацию и защитить интересы добросовестных участников рынка. Несмотря на то, что на форуме председательствовал сам Мельес, делегаты приняли закон: каждый член ассоциации должен выдавать не менее 10 минут смонтированного фильма в неделю.
Для студии Мари-Жоржа-Жана это было непомерно много. Приверженность маэстро к театральности безнадежно устарела. Он снимал как привык — на неподвижную камеру, в декорациях. А все вокруг устанавливали камеры на тележки или машины, снимали с непривычных ракурсов, на натуре, на экраны врывалась драма, сметая комичных персонажей. Этот вал новшеств, а также пиратство и обязательства, которые невозможно было выполнить, загнали к 1913 году Мельеса в чудовищные долги. Несколько лет он пытался удержаться на плаву, но в конце концов пришлось продать поместье и студию. Перед тем как съехать, творец сжег свои бесценные фильмы. Глядя на одухотворенное лицо с лихо подкрученными усами, почти невозможно представить этого режиссера за таким занятием.
Какое-то время Мельес со своей второй женой, бывшей актрисой его фильмов, продавал сладости в лавочке на вокзале Монпарнас. Он мастерил игрушки, рисовал, удивлял малышей фокусами. Слава ненадолго вернулась, когда журналист Жорж-Мишель Круассак поместил интервью с ним в свою книгу об истории кино. Мельесу заказали мемуары, устроили показ восьми сохранившихся фильмов, наградили орденом Почетного легиона и в конце концов приютили в доме для престарелых кинематографистов. Маэстро продолжал рисовать, писать и консультировать почти до самой смерти в 1938 году.
Неизвестно, сколько фильмов снял Мари-Жорж-Жан Мельес. Возможно, около пяти сотен. Исследователи до сих пор находят считавшиеся утраченными творения художника, который сделал кино зрелищем.