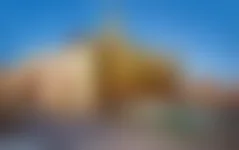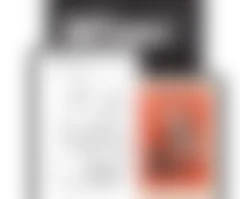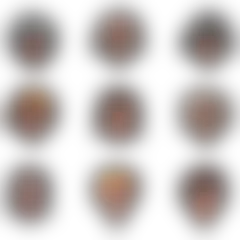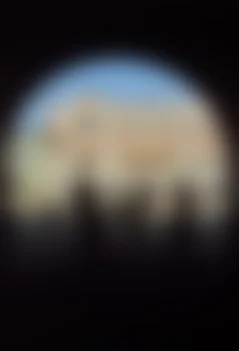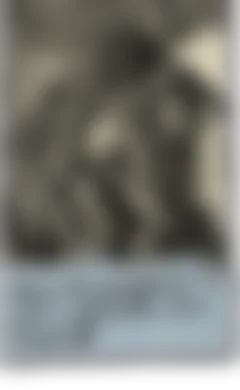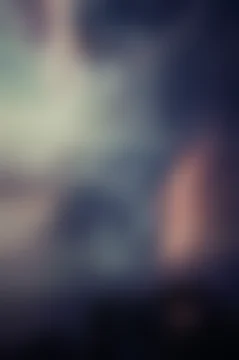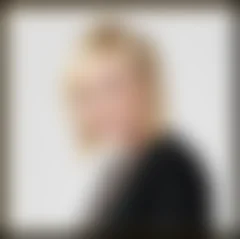Мир изменился, и все мы теперь несем печать праздного класса. Разбираемся, чем общество потребления отличается от общества впечатлений и как нам теперь потреблять.
Сенека считал себя скромным парнем, хотя имел поместье, владел множеством рабов и был вторым (после императора) богатейшим человеком в Риме. А вот Лао-цзы, даром что приближенный царя, ненавидел показуху и впадал в хандру на пирах и приемах. Первому было бы очень уютно в классическом обществе потребления. Второму — в недавно сложившемся обществе впечатлений. Ну а мы живем в уникальную эпоху — мы застали и то, и другое.

Общество потребления описали не вчера. Первая книга о нем вышла в XIX веке. Еще в 1899 году экономист Торстейн Веблен выпустил «Теорию праздного класса», которая даже сейчас (если не обращать внимания на архаизмы вроде кринолинов и пароходов) смотрится актуально. Все, что вы хотели узнать о происхождении понтов, можно найти в этом исследовании.
Веблен старался понять, почему некоторые столь нерационально тратят свои личные ресурсы. Казалось бы, наступает век модерна и разума, протестантская мораль победила, но траты говорят об обратном: при первой же возможности люди покупают не то, что им полезно, а то, что считают престижным. В попытке выяснить, в чем причина, Веблен обратил внимание на элиту, которую назвал «праздным классом». И действительно, элита во все времена любила избыточные траты. Вожди племен скупали безделушки, закатывали баснословно дорогие пиры, их сотрапезники сжирали целые стада, а слуг было так много, что они маялись от безделья.
Зачем все это нужно? Чтобы показать свой статус, конечно, — продемонстрировать, что ты не крестьянин и не раб. Чем безрассуднее выглядели расходы, тем большим был эффект. Реальные материальные ценности обменивались на нематериальные — социальный капитал. Или, проще говоря, на понты.
Другой способ дистанцироваться от низов — праздность. Веблен (без тени иронии) называет безделье главной работой элиты. Праздность — не обязательно лень. Это все, что подчеркнуто не похоже на производительный труд простых людей. Оккультизм, музыка, древние языки, этикет — чем больше времени ты тратил на подобные бесполезные занятия, тем очевиднее становилось, что тебе не приходится работать. Сюда же — дворянские развлечения вроде танцев, турниров и салонных игр.
Веблен никого не критикует — он только подчеркивает, что правила игры изменились. Из-за промышленной революции материальных благ стало так много, что демонстративным потреблением увлеклись сначала нувориши, потом средний класс, а вслед за ним пытается успеть рабочий. Как говорится, «вы находитесь здесь».
А праздному классу становилось все труднее отмежеваться от простолюдинов: новая мода живет, пока ее не подхватили нувориши и пролетарии, затем ее отбрасывают и меняют на другую. Гонка понтов стала не менее яростной, чем гонка вооружений, — и такой же бесконечной. Веблен приводит комичный пример из своей эпохи: как только представительницы буржуазии начали носить корсеты и кринолины, дамы из высшего света перестали — чтобы отделить себя от разбогатевших выскочек.
В 1899 году Веблен сделал смелое предположение: однажды жизнь станет такой сытой, что в гонку понтов так или иначе включится каждый человек на планете. В 1970-м, когда французский философ Жан Бодрийяр написал свой главный труд «Общество потребления», это уже был факт. Оставалось только попытаться понять, что с этим делать, — чем Бодрийяр и занялся.
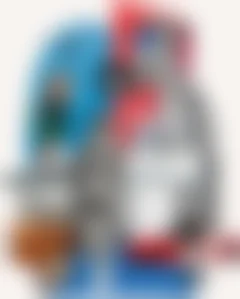
Потребление, если верить философу, быстро дошло до абсурдного, дегуманизирующего уровня. Человек начал определять себя через бренды, которые покупает, и через вещи, которые может себе позволить. А система всячески поддерживала такое поведение. Ей уже недостаточно было воспитывать работников, как в XIX веке, — ей требовались потребители: какой толк от рабочего, если он не спустит всю зарплату на продукцию своего (или соседнего) завода?
Мало того (опять же, если верить Бодрийяру): логика потребления распространилась на все сферы жизни. В ход идут общение, искусство, идеология и религия подбирается постатуснее. Да что там, демонстративный отказ от потребления сам по себе может быть вычурной формой понтов.
Объектом становится даже трагедия. Вернее, трагедией она остается для ее жертв и участников. А для зрителей новостей она — сверхреалистичный блокбастер. Обывателю проще испытывать эйфорию, если он знает, что за пределами его комфортного мира происходит нечто ужасное.
Тревожный тон Бодрийяра понятен и небезоснователен. Но консьюмеризм оказался еще изощреннее, чем он предполагал. В 1992-м немецкий социолог Герхард Шульце издал книгу «Общество впечатлений. Культурная социология современности», где заявил, что правила игры снова изменились. Акцент сместился с внешнего на внутреннее. Желание обладать статусными вещами все больше уступает желанию обладать статусными впечатлениями и ощущениями. Причина — глобализация и цифровые технологии. Раньше, чтобы показать себя, нужно было купить самую большую и сверкающую машину. Сейчас — испытать нечто такое, чего не испытывали люди из твоего окружения: погулять по фавелам Сан-Паулу, пожать руку Далай-ламе, съесть самый острый перец в мире.
Понты становятся все более эстетизированными. В главный понт превращается уникальность, интенсивность и аутентичность опыта. В XIX веке широкие массы позаимствовали у праздного класса идею статусного сверхпотребления, а теперь в моду вошла романтическая жизненная стратегия, когда-то доступная только элите. Купить сумку за 1 млн рублей — или отказаться от нее и за те же деньги отправиться в Тибет искать себя? Это две стороны одной медали. Или, точнее, две стороны подсмотренной у праздного класса модели поведения.
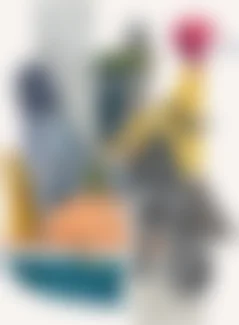
Человек общества впечатлений хочет прожить жизнь максимально ярко, индивидуально и глубоко. Это касается выбора партнера, образования и работы (которая в идеале должна быть почти неотличима от хобби). Отсюда особая популярность туризма и необычных, выделяющих человека увлечений и убеждений. Реклама подстраивается под эти изменения: раньше она обещала, что новая машина повысит статус, а теперь клянется, что она подарит новые уникальные переживания.
Современный человек все чаще не знает, кто он и чего хочет. На машину, по крайней мере, можно было попытаться накопить. Но как накопить на смысл жизни? Чтобы чувствовать себя статусно, теперь надо испытывать яркие впечатления. А если их нет? Даже бремя интерпретации этих переживаний мир переложил на потребителя. Что я чувствую? Настоящие ли это чувства или мне их внушили? В такой обстановке легко превратиться в невротика. Кто-то даже может испытать ностальгию по простым и невинным временам, когда целью жизни были импортные кроссовки и новый «видак».
Хорошо то, что такой подход может снизить уровень сверхпотребления. Плохо — что глобально идеология потребительства никуда не исчезла, просто ее механизмы становятся более эстетизированными и утонченными. Жан Бодрийяр сказал: «Человек гламурного мышления есть существо, которое считает акты потребления достижением». И эта мысль по-прежнему актуальна. Мы все еще потребляем не столько вещи и впечатления, сколько свой собственный образ — в попытке хотя бы себе казаться лучше, чем мы есть на самом деле.
Но если говорить совсем честно — кто из нас отказался бы от цилиндра и кареты?