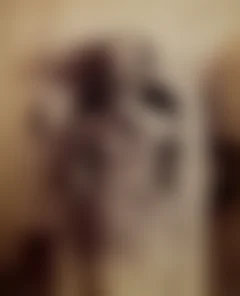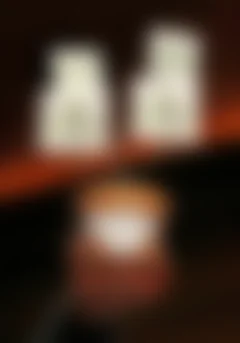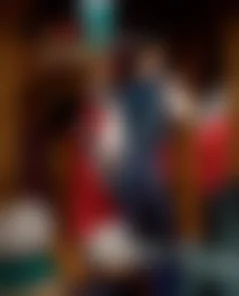Окутанная дымом аркебуза, огромный бердыш в руках, красные кафтаны и бунты по любому поводу — ни один род войск в царской армии не был овеян таким количеством стереотипов и мифов. За полторы сотни лет они отметились не только на поле боя, но и в многочисленных восстаниях в столице, за что жестоко поплатились при Петре I.
Первое огнестрельное оружие появилось на Руси в конце XIV века. Это были примитивные пищали — «тюфяки» (от монгольского «тюфенг»). Их применяли при обороне Москвы от хана Тохтамыша в 1382 году. Со временем вооружение совершенствовалось, на территорию Московского царства завезли западноевропейские аркебузы. В итоге к началу XVI века в городах появились «пищальники» — пехота, созданная из мещан и вооруженная самопалами с фитильным замком.

Public domain
Постепенно их начинают применять в полевых сражениях и во время штурма крепостей. Наконец, при Иване Грозном, летом 1550 года были поставлены под ружье три тысячи выборных (то есть лучших) стрельцов. Жить им повелели в Воробьевой слободе — царской резиденции.
Изначально они формировались из тех же пищальников или городовых казаков, умевших хорошо стрелять. Но позже набор шел уже «по отечеству», то есть дети, племянники и даже братья служилых людей также становились стрельцами. В особо тяжелые годы, когда войны или эпидемии прореживали армию, государь брал солдат из крепостных и мещан.
Новоиспеченный пехотинец «огненного боя» получал подъемные для строительства дома в слободе, куда заселялся с женой и ближними родственниками. Также его обеспечивали зерном, сукном для кафтана и давали 4–5 рублей в год (по тем временам прилично, но не так чтобы много). Важным подспорьем становилось освобождение от налогов, что позволяло жене или братьям воина держать в Москве лавки или ремесленные мастерские.
Государство выдавало вооружение, а перед походом — порох и свинец, из которого сам военнообязанный лил пули. Позже их начали делать централизованно, храня в мирное время на складах и раздавая по мере необходимости.
Основной задачей на поле боя для стрельцов была поддержка действий поместной конницы огнем из ручного оружия. Поначалу использовались фитильные аркебузы, выстрел из которых производился, когда порох на специальной полке поджигался с помощью горящей промасленной веревки. Причем изначально даже не было спускового крючка или скобы, воин нажимал на кнопочку на боку самопала. Позже появились более совершенные кремневые замки, выдававшие искру при ударе камня о металлическую пластину. Они не так сильно боялись влаги, и их не нужно было зажигать перед боем.


Royal Institute for Cultural Heritage (2)
В снаряжение входила перевязь, называемая «берендейкой», на которой помещались 12 пенальчиков с уже отмерянными пороховыми зарядами для быстрой подготовки к стрельбе. Считалось, что такого количества вполне достаточно в битве. На голове носили шапку с меховой опушкой. Очень редко ее дополнял какой-то простой, не мешающий обзору шлем.
В качестве оружия ближнего боя на поясе стрельца висела шпага или сабля. А с XVII века солдатам начали выдавать бердыши. Этот длиннодревковый боевой топор достигал 170 сантиметров в длину (причем секировидное колюще-рубящее навершие — около 80). Принято считать, что его использовали как сошку, на которую клали мушкет во время стрельбы, однако многие историки, в том числе известный археолог Олег Двуреченский, опровергают этот стереотип.
В полевом сражении стрельцы старались обезопасить себя от атак вражеской кавалерии, ведя огонь из-за специальных передвижных щитов на колесах. Использовались и вагенбурги из укрепленных телег, известные как «гуляй-город». Так в битве при Молодях 1572 года именно об эту крепость разбились волны татарской конницы крымского хана Девлета I Герая.
Если же такой защиты не находилось, использовали специальные загородки из пик, насаженных крест-накрест на бревно. Получался своеобразный «противотанковый еж» XVII века, из-за которого пехота вела огонь. Причем он не был прицельным. Из-за несовершенства оружия того времени во врага получалось попасть исключительно за счет массированного залпа.
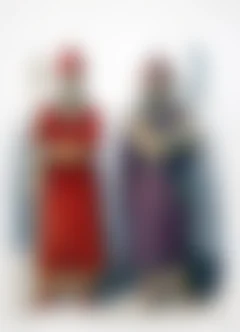
The New York Public Library
Сабля и бердыш оставались оружием последнего шанса. Их использовали в случае, если приходилось отбиваться от наскока вражеской кавалерии или пехоты, и чаще всего такой бой заканчивался не в пользу стрельцов.
Еще один известный стереотип — красный кафтан. На самом деле цвет повседневного костюма был чаще всего серый, коричневый или черный.
Лишь во время праздников и парадов войска одевались в яркое, причем каждый отряд окрашивался по-своему. Были и фиолетовые, и оранжевые, и светло-зеленые, малиновые и даже желтые. Лишь Стремянной приказ, всегда находившийся рядом с царем, носил красные одежды каждый день. Именно их обычно видели иностранцы, отсюда и закрепившийся миф об единообразном облике.

Государственная Третьяковская галерея
Помимо обязанности по первому зову выйти в поход, московские стрельцы несли службу как отряды народной милиции. В мирное время, вооруженные батогами (прутами для телесных наказаний), они патрулировали улицы, разнимали драки, ловили бандитов, препятствовали преступлениям.
На их же плечи падала забота о тушении огня, ведь деревянная Москва неоднократно горела. При первых признаках пожара их отряды с баграми и водой спешили к месту происшествия. Чаще всего стрельцы просто разбирали дома, находившиеся рядом с возгоранием, чтобы локализовать его. Но за особую плату от хозяина могли окружить усадьбу щитами, которые поливали водой.
Находясь в Москве, стрельцы неоднократно не только усмиряли бунты, но и участвовали в них. Это и привело к их падению. Царь и будущий император Петр Великий не простил им убийство своих родичей в 1682 году, и после восстания 1698-го провел репрессии, а затем, уже ближе к 1720-м, перевел оставшихся стрельцов в созданные им солдатские полки.