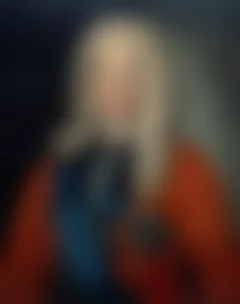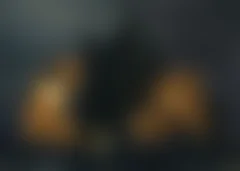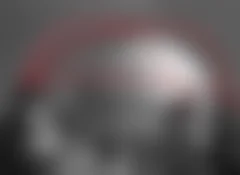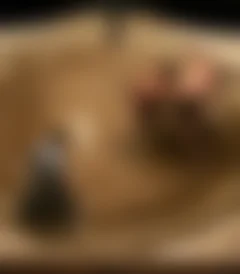Политолог Алексей Чеснаков о «своем» Высоцком — разном в разные времена, но всегда находящемся где-то рядом.
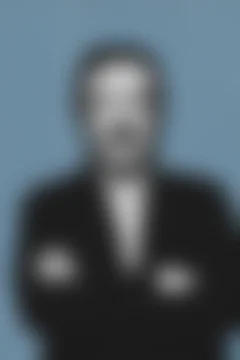
Пройдя через ряд жизненных и социальных ролей, легче понимаешь феномен Высоцкого и справедливость утверждения, что он «у каждого свой». Высоцкий действительно, еще с советских времен, у каждого свой — у народа, у власти, у интеллигенции. Каждая из этих аудиторий придает Высоцкому особый статус, наделяет специфическими качествами, создает популярные мифы.
Для народа он, понятное дело, совсем свой. Хотя и больше русский Глеб Егорыч, чем еврей Владимир Семенович. Поет о том, что близко и понятно. Без идеологических штампов и назиданий. Герои песен, как на подбор, — соседи по коммуналке. И Нинка некапризная, и зэка Васильев, и Зинка с шурином. Даже жираф, который с антилопою. В кино, опять же, играет своих парней. Ну, может, один раз сыграл непонятного арапа. Но это допустимо — дед самого Пушкина. А так, куда ни глянь, везде точно свой: танкист, радист, бригадир. Плоть от плоти.
Для власти он, конечно, не свой, но и не чужой. Власть чувствует угрозу в словах «те, кто едят, ведь это — делегаты». Поэтому большие роли дают, но фильмы с этими ролями кладут на полку. Концерты не запрещают, но и книг не печатают. Слушают дома, но ругают на партсобраниях. Поет о войне? Но и тут по-своему. Зачем-то о штрафбатах. Ершист. Балансирует на грани, но знает, где компенсировать. Хотя и «француженка жена, но русского она происхождения». Через ограждение не перепрыгнет. Полезен. Патриот. Демонстративно заявляет, что не готов обсуждать свои разногласия с советским правительством, беседуя с зарубежными корреспондентами, да еще и находясь за рубежом.
Для интеллигенции он не чужой, но и не свой. Она такая, интеллигенция. Вредная прослойка. Всегда так — не нашим, не вашим. Она точно знает, что настоящий интеллигент не споет «Нинка не капризная» и про образ Вали на груди тоже не споет. Слишком простонародно. Жаргонно. Для нее Высоцкий не поэт. Только бард. Поэтому не для него предназначена роль Сирано. Для такого образа куда больше подходит Евтушенко, несмотря на то, что он за колхозы. За Брусенцова и за Гамлета что-то интеллигенция простит. Но не все. А все, за что могла бы, оказалось, как уже сказано, на полке надолго.
Мне трудно отнести себя к одной из этих аудиторий. Но и у меня тоже есть свой Высоцкий. У которого как-то органично сочетаются и «мордуют уголовники», и «жираф большой — ему видней», и «сплетни в виде версий». Для меня русский язык без Высоцкого уже не так красив. И не так окрашен смыслами. Да и в разные времена жизни он у меня получается разный. Но всегда находящийся где-то рядом. И порой «внезапно попадает в такт», помогает почувствовать собственное дыхание и понять, как они совпадают с дыханием моей страны.
В 70-е книг Высоцкого не было. «Нерв» вышел только после смерти. И как все «книжные дети» тех лет, с раннего детства помню лишь его голос из динамика родительского бобинного магнитофона «Комета-209». «Опять включил хрипатого», — ругался дед-фронтовик. А хрипатый пел много того, что вроде бы нехорошо и почти запрещено. То, что разрешено, тоже пел. Но не так, как другие. Ярко и честно. Маленькие мозги еще не понимали смыслы, но уже верно улавливали интонации.
80-е разделились на две части. В первой половине Высоцкий как будто исчез. Не насовсем. Время от времени появлялся где-то на периферии, в «Балладе о доблестном рыцаре Айвенго» например. И в редких пластинках. Но смыслов эпоха не добавляла. Лафеты намекали на приближение чего-то непонятного и страшного в виде ядерной войны. С ядерной войной у меня Высоцкий как-то не сочетался.
Потом началась перестройка. Ей нужны были героические борцы с системой. Миф о Высоцком оказался полезен. Появилось множество пластинок. В моем случае это были гиганты «Мелодии». Потом был резонансный фильм Рязанова «Четыре встречи». В моду входила новая искренность. Впрочем, какая-то фальшивая. Семнадцатилетнему советскому парню казалось заслуженной, но очень странной выданная Высоцкому посмертно Государственная премия СССР за роль Жеглова аж через восемь лет после выхода фильма на экраны. Конъюнктурно. Для власти, а не для Высоцкого, разумеется. Высоцкий «пошел в массы». Нашлись идеологически подходящие тексты. «Утром укрепляющую» вовсю закрутили на зарядке в комсомольском лагере.
С 90-ми Высоцкий в такт для меня не попадал. Он куда-то отошел на время. Порой казалось, что и навсегда — вместе с эпохой и страной, с приоритетами и контекстом, людьми и словами. Высоцкий с этим временем не ассоциируется. Может, потому, что это был период, когда ностальгию уже вовсю коммерциализировали на фоне гражданской войны. В такой атмосфере трудно найти место настоящим песням о главном.
В нулевые и годы, что были потом, Высоцкий вернулся. Так и напрашивается штамп-цитата: «Как корабли из песни». Причины возрождения — в многообразии личных интересов и больших мировых поводов. После явных проблем в стране появились и явные победы. Общественные настроения начали меняться. Высоцкий перешел в разряд классиков. Появилось множество аранжировок, изданий. Высоцкий даже появился в многосерийном фильме. Спасибо, что не живой. Улицу именем назвали. За улицу, кстати, отдельное спасибо Эдику Багирову. И еще сами знаете кому.
Теперь такт поменялся. Высоцкий опять куда-то уходит. Что бы ни говорили самые преданные поклонники его творчества. Теперь по другим причинам. Наступил другой век. И люди в нем другие. Высоцкий еще остается современным, но вокруг нас все меньше и меньше его современников. А у тех, кто остался, — новые традиции и новые песни.
Прошло уже почти полвека после смерти поэта. Люди исчезают. Звуки гаснут. Краски стираются. Все не так, как тогда. И о Высоцком уже всё больше судят по роли Жеглова, чем по «Коням», и уж точно не по спектаклям Таганки.
Надеюсь, что он все же еще вернется «весь в мечтах». И повзрослевшие зумеры и альфы откроют, что они говорят языком Высоцкого. На котором говорили их отцы и деды. И он опять будет попадать в такт, но уже для других «книжных детей», у которых будут свои войны и катастрофы, свои каверзные ответы на нужные вопросы и свой Высоцкий.