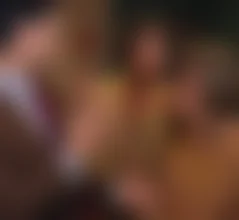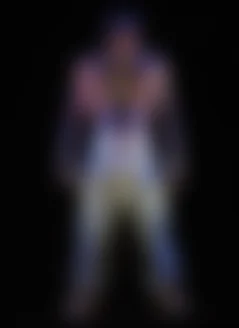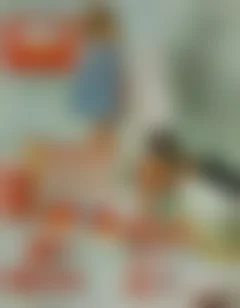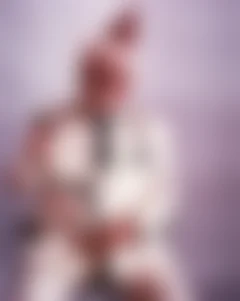Преподаватель НИУ ВШЭ и автор ютьюб-канала «Файб» Александр Файб рассказывает, как так получилось, что все современные ютьюб-шоу вышли из телевизора.

Знаете эту нелепую ситуацию, когда новоселье, полная кухня гостей, пахнет ремонтом (главное — кухню поставили), ты забыл заранее убрать шампанское, поэтому в холодильнике оно мерзло от силы минут 20, пока гости отвлекались разговорами и скомканным рум-туром, и вот ты достаешь бутылку, чуть суетишься (рука же набита, ну что может пойти не так?), улыбаясь раскручиваешь проволоку, аккуратно расшатываешь пробку, но скользкие от волнения пальцы соскальзывают, пробка рикошетит от свеженатянутого потолка кому-то по голове, а пена теплого шампанского растекается по полу. И ты стоишь в этой луже, как дурак, и мысль только одна: хорошо, что на кухне положили плитку, а не паркет.
Примерно так же внезапно и с грохотом в Советский Союз ворвалась политика гласности, а с ней — и новое телевидение в конце 1980-х.
Долгое время страна жила по простым правилам. Есть темы, которые все обсуждают между собой: в курилках, на кухне, в бане и во дворе, а есть другой набор тем, о которых можно прочесть новость, увидеть репортаж или телефильм. А потом эти два мира объединились. И вся страна уставилась в кинескопный экран телевизоров «Рубин», «Рекорд» и «Темп», как в зеркало. До популярных плоских телевизоров было еще далеко, округленная картина на экране выглядела искаженной, но оторваться было невозможно.
За 15 лет (давайте считать с премьеры «Взгляда») телевидение в России спешило наверстать путь, который западное ТВ в спокойном темпе проходило с пятидесятых. Цветная картинка, первые телемосты, прямые эфиры, сбитая сетка новостного вещания, интервью, ток-шоу и, наконец, гигантский развлекательный сегмент — от «Империи страсти» и «Про это» до фильмов по СТС, премьер клипов по MTV и детских передач Супонева.
Когда что-то делаешь в спешке, у тебя два варианта: либо в мусорное ведро, либо превзойти ожидания так, чтобы оправдать долгое отставание или прокрастинацию. У российского телевидения получилось превзойти и войти в пул мировых лидеров индустрии, оставив далеко позади многие европейские страны. Ориентир всегда был один — США.
Телевизионные начальники и акционеры решали свои задачи. При помощи телевидения они разыгрывали политические комбинации, отменяли оппонентов еще до «культуры отмены», вбрасывали компромат, решали исход выборов. Телевидение воспринималось и как субъект манипуляции («четвертая власть»), и как ее объект («да все они продаются, за баксы-то»). Уникальная ситуация, стоит признать, но в головы людей все проникло сильно глубже, чем просто ситуативные «информационные войны».
Когда вся страна стремилась к одному — забыться, телевизионный экран был твоим почти безальтернативным выбором. Ты не мог путешествовать (уже не из-за выездных виз, денег не было) — по ТВ тебе показывали страны, о которых ты даже понятия не имел. Ты не понимал, как устроены современное общество и культура, — журналисты молодежных шоу по типу «До 16 и старше…» и герои французских сериалов вроде «Элен и ребята» оказывались твоими проводниками в новый мир.
Телевидение было универсальным способом познания действительности и абсолютно сакральным — каким в 1930-е годы стало кино.
Вы слышали что-нибудь о профессиях телеграм-обозреватель или интернет-критик? А профессия телекритика — была! В каждой солидной редакции СМИ был солидный человек, чья задача была по восемь-десять часов в день отсматривать весь прайм-тайм на ведущих телеканалах и выдавать хлесткие рецензии в формате колонок. За это с критиками старалось дружить телевизионное начальство, они становились признанными экспертами, вручали премии, к ним прислушивались и их презирали. Мои сверстники, которые каким-то чудом попадали в эфир детских программ (скажем, «Устами младенца»), могли еще неделю ходить гоголем по школе с короной на голове. Такое обожествление и такой статус могли быть только с телевидением.
Сближение аудитории с ведущими журналистами случилось так же стремительно, как и все, что происходило на рубеже 80-х и 90-х. Они становились членами семей. «Светочка», «Ариночка», «Сережа». Их не просто любили — их Уважали. А те, кто взрослел под телевизор на кухне, смотрели на них и хотели стать такими же. Влиятельными, успешными, популярными — бешеный конкурс на журфаках нулевых был предопределен десятью годами ТВ-фурора. Журналистика стала такой же модной профессией, как сейчас айтишник или как в советские годы — ракетостроитель.
Как обидно должно быть большим телевизионным начальникам, которые эту индустрию строили и развивали.
Самым медийным из телеменеджеров 1990-х был и остается Константин Эрнст — не в последнюю очередь из-за жюри КВН. Много людей знают имена остальных топ-менеджеров и визионеров? Кому-то, кроме историков медиа или телекритиков, интересны персоны Олега Попцова, Эдуарда Сагалаева или Анатолия Лысенко? Они не выступали с лекциями TED, они не стали лидерами мнений в соцсетях, мы даже не знаем, есть ли у них мемуары (наверное, есть; какой там тираж, 5000 экземпляров?). Они остались лишь легендами отрасли и героями баек в «Останкино».
Второе исключение помимо Эрнста — естественно, Владислав Листьев. Как менеджер он создавал телевидение, как ведущий — он телевидением и был. Слияние этих двух ролей и статус первооткрывателя («Взгляд», «Тема», «Час пик») сделали его легендой и для своих, профессионалов, и для зрителей. У Листьева была такая же фора, как и у его не менее легендарного современника Виктора Цоя: первым подсмотреть/подслушать что-то западное (Wheel of Fortune/ The Smiths), но неизвестное у нас, и адаптировать это так, чтобы превзойти оригинал. Листьев вел «Поле чудес» всего год, но запомнился на все 30+ лет, что передача в эфире.
Недавно с другом обсуждали, как справляться с напряжением и где тот safe space, чтобы сбросить эмоции и забыться. Я серьезности вопроса не понял, брякнул что-то общеупотребимое про спорт и прогулки с собакой, а в ответ услышал: «А я, чтобы не бухать, смотрю старые телепередачи и сериалы, которые включал, когда возвращался домой со школы».
Этот искренний ответ напомнил эмоцию. Детство — это не только про стресс экзаменов, невозможность что-либо купить на карманные деньги и подчинение воле родителей. Это еще размеренное предсказуемое существование, где от тебя ничего не зависит, но и ты почти никому ничего не должен. И ТВ — твой вечный спутник в этом мире, где тебе бесплатно расскажут все то, о чем ты долгие годы будешь потом мечтать.
И вот ты вырастаешь, начинаешь зарабатывать первые деньги, уже сам решаешь, что смотреть и на чем смотреть, но твое медиапотребление будет навсегда выстроено так, как это было принято на «том» телевидении. Тем более что 90 % людей, которые делают популярный контент на русском языке сейчас, выросли на нем так же, как и ты.
И форматы, которые мы видим на русскоязычном YouTube, подозрительно похожи на то, что мы смотрели 25 лет назад. Интервью, телемосты, экспертные комментарии, обзоры новостей, музыкальные шоу, реакции на клипы, тайны истории, интеллектуальные игры с участием комиков, беседы про секс, стендап-спешлы. «Ты видел, у Задорнова вышел новый стендап-спешл про американцев?» Звучит кринжово, но а что это было-то, с «наберите воздуха в легкие», если не спешл и не стендап, хотя о Comedy Store на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе он вряд ли даже подозревал.
Эти форматы придумало не телевидение. Их придумали люди, которые там работали. Сейчас им 60+. А потом люди, которые их смотрели, ушли туда, где теперь еще больше аудитории и еще выше конкуренция. Сейчас им 30+. В этом safe space для них — и для тех, кто на них растет сейчас (10+).
Без феномена русского ТВ 1990-х не было бы никакого феномена русского YouTube 2011–2024. Мы стали второй телеиндустрией мира и сделали второй по качеству и глубине YouTube. Это не человека в космос запустить и не лекарство от рака изобрести, но здесь даже повод для гордости искать не надо — вот они, их целых два, и про них стоит не забывать.