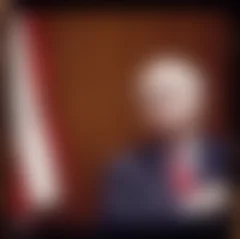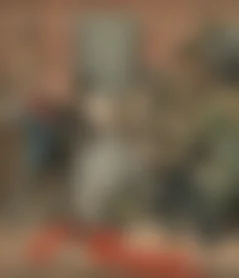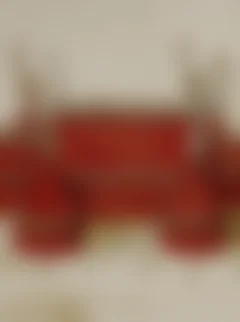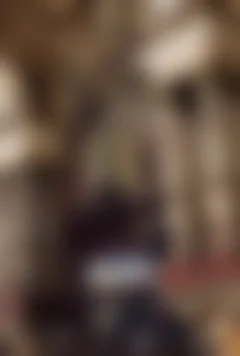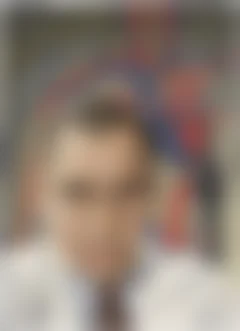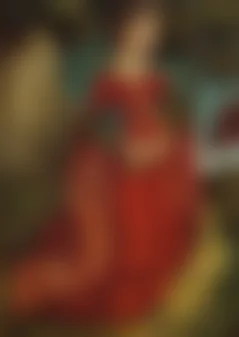Он не сошел с ума — он ушел вглубь. В 1922 году Карл Густав Юнг заложил первый камень в Боллингене — уединенной деревушке на берегу Цюрихского озера. То, что начиналось как скромная хижина, вскоре превратилось в башню, метафору, миф. В мире, где у каждого психолога — кабинет, Юнг построил себе целый архетип.
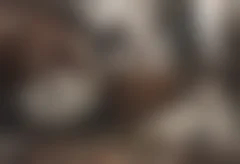
Public Domain

AKG Images / East News (2)
В Боллингене нет ни достопримечательностей, ни фонтана, ни кафе с пирожными. Но есть башня — и это все меняет. Башня Юнга стоит у самой воды, изолированная от мира, без электричества, без телефона, без отопления. Психиатр мирового масштаба мог жить в любом швейцарском отеле с террасой, но выбрал рукотворную аскезу. Строить начал сам, вручную, после сорока, когда, по его собственным словам, «человек должен вытащить свою тень наружу». До этого Юнг пережил смерть матери, творческий разрыв с Фрейдом, кризис веры в науку и несколько лет внутреннего распада, который сам описывал как «ночь души». Он рисовал мандалы, разговаривал с бессознательным, вел диалог с архетипами и в какой-то момент — просто вышел из дома. Нашел реку. Стал строить запруды и домики, как ребенок. И выжил. А потом — решил продолжить. Только уже не в голове, а в камне.

Public Domain
Башня строилась поэтапно. Первая часть — круглая башенка — появилась в 1923-м. Потом добавлялись другие сегменты, все более архаичные. Крыши становились стреловидными, стены — грубее, как будто шли не вверх, а назад — к доисторическим временам. Это была не дача и не дом. Это был лабиринт. По задумке Юнга, каждая часть башни отражала слой психики. Сама башня — тело и инстинкты. Жилые комнаты — эго. Внутренний двор — граница между сознанием и бессознательным. Последняя башня, построенная в 1955 году после смерти его жены, — символ самости, точки, где сознание и бессознательное сливаются.
Внутри — алхимические символы, латинские цитаты, рунические надписи, изображения мандал. На одном из камней Юнг выбил фразу «Vocatus atque non vocatus, Deus aderit» — «Призванный или не призванный, Бог явится». Это была не просто надпись, а заклинание. Башня становилась храмом, но без религии. Пространством, где психика обретает форму. Не случайно он писал, что только в Боллингене чувствует себя «реальным». Все остальное — маска.

Public Domain

AKG Images / East News
Тишина была частью замысла. Там не было радио. Не было печки. Зимой все замирало. Юнг готовил на костре, воду носил из колодца. Время измерял не часами, а солнцем. Он был не отшельником, а архитектором психики. Башня напоминала ему, что личность строится не из успехов, а из глубин. Он писал то, что звучало не как уединение, а как воссоединение:
«Когда я в Боллингене, я — то, чем был, есть и буду. Я — сам по себе».
После смерти Юнга башня осталась нетронутой. Она закрыта для публики, доступ туда возможен только по предварительной записи и с разрешения семьи. Это место не про туризм. Это — дневник, написанный в камне. Карта, по которой Юнг шел к себе. Архетип, который он выстроил вручную, слой за слоем, как терапию без слов.