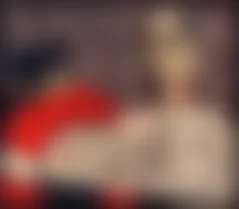В престижном районе Москвы, где малый клочок земли стоит толстую пачку денег, стоят деревянные дома. Как такое могло случиться и долго ли это будет продолжаться.

East News
«Все сущее состоит из противоположных начал, которые, будучи едиными по своей природе, находятся в борьбе и противоречат друг другу». Этой путаной фразой Гегеля можно объяснить появление на окраине Москвы (столетней давности) уникального по своей архитектуре и социальному предназначению поселка.
С одной стороны, Ульянов-Ленин подписывал декреты о национализации банков, предприятий и поместий. С другой — он же подмахнул директиву о строительстве в Москве частных домов на частные деньги. С одной стороны, интеллигенцию выгоняли из страны, с другой — разрешили жить вместе, да еще в столице. С одной стороны, городу некуда селить хлынувший из деревень народ, и надо строить много-многокомнатные бараки, с другой — разрешают возводить дома на одну-две семьи. С одной стороны, вся власть рабочим, крестьянам и бедноте, с другой — жилищное самоуправление интеллигенции, да еще такой, которая при деньгах.
Вот в какой противоречивой конфликтной ситуации начал строиться невероятно гармоничный поселок Сокол. Благонадежным обеспеченным людям разрешили участвовать в кооперативном жилищном строительстве. Кстати, именно тогда, в начале 1920-х, впервые был принят план с широко известным сегодня названием — «Новая Москва». Вдоль окружной железной дороги собирались возвести множество жилых районов, отвечающих концепции «город-сад» англичанина Говарда. Увы, Сокол оказался единственным.

Градостроительный план «Новая Москва», 1923 год
Public Domain
К 1923 году Моссовет сочинил положение о жилищных товариществах, и началось. Начать предполагалось с Сокольников. Но изыскательные работы показали, что этого делать не стоит. Тем временем уже вся атрибутика вплоть до эмблемы с соколом, зажавшим в когтях частный дом, была подготовлена. Решили строиться поближе к Коптевским Выселкам, недалеко от ж/д платформы Серебряный Бор, а сокола в документах оставить. Позже не только поселок, но и станция метро, и весь район столицы стали называться «Сокол».
Члены товарищества, а это — состоятельные ученые, художники, архитекторы, чиновники, должны были построить не просто частные дома и даже не просто поселок, а эталонный комплекс, по примеру которого будут возводиться районы по всему Союзу. Поэтому Сокол строился по заранее продуманному до мелочей проекту. До него такой чести в России удостоился только Санкт-Петербург. К планировке и архитектуре приложили руку Щусев, Фаворский, Марковников, братья Веснины.Главные принципы организации пространства: как можно больше зеленых насаждений, одно-двухквартирные дома, никаких глухих заборов. Но основной задачей было сократить расходы на материалы и максимально упростить технологию, при этом создав в домах все удобства.

Public Domain
Озеленением занимались сами жители, среди которых были специалисты в этой области. Породы деревьев подбирали с учетом того, как их листва будет вести себя осенью и сочетаться со зданиями: красный клен, мелколистная и крупнолистная липа, белый тополь, ясень, американский клен. Помимо этого, на улицах и в палисадниках произрастало более полутора сотен уникальных растений, многие из которых занесены в Красную книгу.
В поселке были и рубленые избы, и каркасно-насыпные «английские коттеджи», и кирпичные дома наподобие немецких — и все разные. Преимущественно с четырьмя жилыми комнатами, гостиной, кухней, террасой и мансардой. Были и многоквартирные дома, но ни одного типового. Здесь испытывали новые технологии и материалы, например, впервые использовали фибролит. Во время Великой Отечественной войны каркасно-насыпные дома Сокола выдерживали бомбежку.
Особое внимание уделяли улицам. Для создания пространственных иллюзий проезжую часть загибали, какие-то дома задвигали вглубь, на каких-то не делали окон в торцах, у каких-то фасады состояли из разновеликих секций, даже частота штакетин на заборе создавала особый ритм. Уличные фонари, скамейки, мостки — все являлось элементами продуманной композиции.

РИА Новости

East News
В поселке были свои школа, библиотека, магазин, клуб-театр, а позже и свой музей. Поначалу улицы назывались по объектам инфраструктуры: Школьная, Телефонная, Столовая. Но потом один из кооперативщиков — профессор Павлинов — предложил топонимику с фамилиями художников. Таким образом, поселок получил свое второе название из-за улиц, а не из-за профессиональной деятельности жителей. Для справки: московские художники концентрированно живут в ХЛАМе, по другую сторону Ленинградского проспекта и поближе к центру.
Самоуправлению пришел конец в 1937-м. Жилой и нежилой фонд соколян прибрал к рукам Моссовет. В 50-х поселок решили сносить, но поднялись общественность, творческие союзы и даже Минкульт. Результат оказался самым неожиданным: комплекс признали памятником градостроительства. Правда, в материальном плане это на Соколе никак не отразилось.
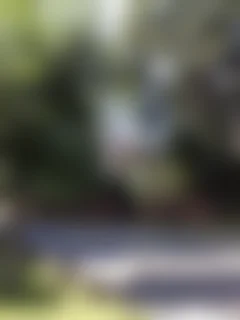
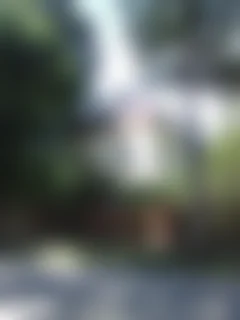

Личные архивы (3)
В 1989-м поселку вернули самоуправление и перевели на хозрасчет. Сегодня он живет за счет сдачи в аренду помещений, коммунальных платежей, оказания услуг в сферах архитектуры, научно-исследовательских работ, издательской деятельности, благо специалистов во всех этих областях среди соколян хватает. И не только в этих: знаменитый орнитолог Сергей Кирпичев и его сын Александр прямо у себя во дворе разводили глухарей. Прежде считалось, что эти птицы не размножаются в неволе. У Кирпичевых самки откладывали до 20 яиц, а в дикой природе — максимум 9.
Но вскоре наступили 1990-е. Цены на землю в Москве взлетели до небес, старых жителей в поселке становилось все меньше, а новых больше и больше. Вместе с ними появились сплошные высокие заборы и нехарактерные для Сокола дома.

О. Савин / Public Domain
Однако есть в удивительной жизни поселка художников одна наиболее интересная страница. По первоначальному договору, срок пользования землей установили 35 лет, и жилье не попадало под уплотнение. Но в начале 30-х у кооператива отрезали часть территории под дома для сотрудников НКВД, потом посреди поселка построили роддом, а чуть позже начали уплотнять. Подселяли преимущественно самый пролетарский пролетариат. И тогда произошло нечто замечательное. Понятно, что рабочий класс трудится от звонка до звонка, а в семьях интеллигенции часто встречаются домохозяйки, они и присматривали за малолетними подселенцами. Дети, у родителей которых в лучшем случае было неоконченное начальное образование, целыми днями общались с детьми коренных жителей и их мамами. В результате почти все они поступили в институты.
Это вселяет надежду, что старожилы поселка художников будут и впредь оказывать благотворное влияние на культурную жизнь новых жильцов и всей Москвы.