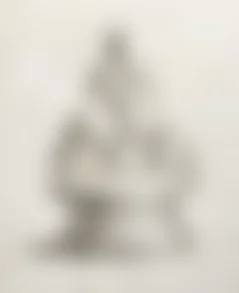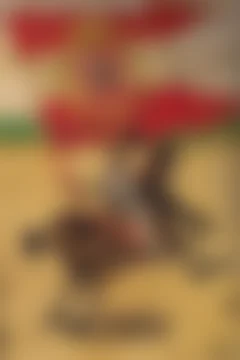Одни художники ломают границы холста, другие — границы здравого смысла. Нередко самые дорогие, странные или до смешного простые произведения двигают мир вперед. Вот пять примеров того, что в искусстве возможно все.
Казимир Малевич. «Черный квадрат», 1915
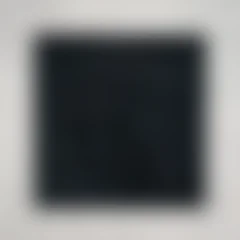
Третьяковская Галерея
Эта картина стала одновременно финалом старого искусства и стартом нового. В 1915 году Малевич показал ее в Петрограде на последней футуристической выставке «0,10». Но главное — он повесил ее в «красном углу», в то самое место, где в русских домах традиционно размещали иконы.
Черный квадрат и стал иконой — нового художественного мира, где живопись больше не изображала реальность, а утверждала чистую идею
Позже реставраторы выяснили, что под черной краской скрываются два других слоя — цветные супрематические композиции. Малевич, по сути, совершил символическое убийство старой живописи, закрасив ее «нулем». Это произведение без сюжета, без формы, но с продуманной идеей и концепцией. Критики спорили, зрители смеялись, но история все расставила по местам: именно этот квадрат — точка отсчета для всего авангарда. В нем заключено то мгновение, когда искусство перестало быть о мире и стало о человеке, который на него смотрит.
Марсель Дюшан. «Фонтан», 1917
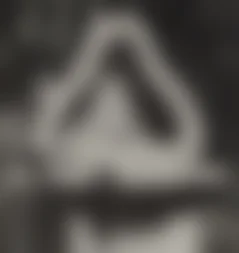

«Фонтан»
Metropolitan Museum of Art
Марсель Дюшан
Yale University Art Gallery
В 1917 году на выставке независимых художников в Нью-Йорке появился объект, который, в буквальном смысле, спустил классическую живопись в канализацию. Марсель Дюшан представил обычный писсуар, назвал его «Фонтан» и подписал псевдонимом «R. Mutt» (Р. Дурак). Заявление было простым и радикальным: если художник выбирает объект и своей волей называет его искусством — значит, так оно и есть.
Комиссия, естественно, была шокирована и сняла работу с экспозиции. Но эффект оказался необратимым. Дюшан не просто пошутил, а совершил главный философский переворот XX века.
Он уничтожил само понятие искусства как ремесла, заменив его искусством как идеей. С этого момента художник стал не столько мастером, сколько мыслителем.
Оригинальный «Фонтан» 1917 года утерян; сохранились лишь реплики, авторизованные самим Дюшаном, которые сейчас находятся в музеях Сан-Франциско, Лондона и других городов. Из банального предмета сантехники родился новый мир, породивший концептуализм, минимализм, а в дальнейшем даже NFT. Дело не в ценности «Фонтана», а в необратимости последствий. После Дюшана искусство уже невозможно было «вернуть в раковину».
Марина Абрамович. «Ритм 0», 1974


Marina Abramović Institute (2)
В 1974 году в Неаполе Марина Абрамович провела самый пугающий и честный эксперимент в истории перформанса. Она поставила перед зрителями стол с 72 предметами — от розы и винограда до лезвия, ножа и заряженного пистолета с одной пулей. В течение шести часов она стояла неподвижно, позволяя публике делать с ее телом абсолютно все, что они захотят.
Сначала зрители были застенчивы и нерешительны: трогали, дарили цветы. Но постепенно, почувствовав безнаказанность, они сорвали с нее одежду, порезали кожу и даже прижали нож к горлу.
Кульминация наступила, когда один мужчина вложил пистолет ей в руку и направил его к голове.
Началась драка между зрителями, которые пытались остановить эксперимент. Абрамович позже призналась: «Я поняла, что могу быть убита».
Когда шесть часов истекли, Абрамович пошевелилась и пошла к людям — молча, просто как человек, возвращенный к жизни. Реакция была ошеломляющей: зрители, еще минуту назад готовые на все, начали отступать, прятать глаза, избегать ее взгляда. Им стало стыдно. Абрамович показала, как быстро исчезают моральные границы, если убрать последствия, и как страшно человеку смотреть в глаза тому, кого он только что перестал считать человеком.
Джефф Кунс. «Кролик», 1986

Yui Mok - PA Images / Getty Images
Серебристый «Кролик» Джеффа Кунса, 104 сантиметра нержавеющего совершенства, выглядит как гигантская надувная игрушка. Но его поверхность, отполированная до зеркального блеска, отражает зрителя — и буквально, и метафорически.
В 2019 году скульптуру продали за $ 91,1 млн, это самая большая сумма, отданная за произведение ныне живущего автора.
При этом Кунс не создавал «Кролика» собственными руками: за него это делали мастера его студии. Он лишь придумал образ и курировал процесс, выступая как продюсер поп-группы, а не как ремесленник. В этом и кроется его гениальность: Кунс — архитектор идеи, поставивший американский китч на пьедестал высокого искусства.
«Кролик» — это одновременно сатира и беспристрастное зеркало. Он безэмоционален и холоден, но в этом его сила: он показывает, что современный арт-рынок стал отражением общества, влюбленного в собственный глянец и идеальную пустоту. Его цена — это не просто сумма, это диагноз эпохи, где форма добилась безоговорочной победы над содержанием.
Маурицио Каттелан. «Комедиант», 2019
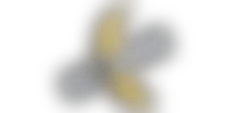
Sotheby's
Майами, 2019 год. На стене галереи Art Basel висит банан, приклеенный серым скотчем. Название — «Комедиант». Цена — $ 120 000. Покупатель при этом получает не сам фрукт, который неизбежно гниет и требует замены, а лишь сертификат подлинности идеи. Маурицио Каттелан, известный своими дерзкими провокациями, довел концептуализм до блистательного абсурда.
Его банан стал точкой кипения, показав, что современное искусство торгует не вещами, а исключительно вниманием.
Когда художник-перформер Дэвид Датуна съел банан, заявив, что это «перформанс в перформансе», стоимость работы только взлетела. Каттелан продал не тропический фрукт, а саму систему арт-рынка, готовую поверить в гениальность ради хайпа. Иронично, что за гораздо меньшие деньги можно купить железнодорожный вагон настоящего искусства — но, увы, не сертификат на обладание бананом.
Новое в искусстве неизменно вызывает три реакции: шок, гнев и восхищение. Оно ставит под сомнение не только привычные категории красоты, но и саму идею ценности. От писсуара Дюшана до банана Каттелана — все эти произведения являются звеньями одной цепи, демонстрирующей эволюцию творческого мышления.
Где-то художники торгуют мечтой, где-то — иронией, где-то — откровенной болью. И неважно, идет ли речь о миллионах или паре сотен тысяч. Главное — что каждое из этих произведений меняет границы человеческого восприятия, мир начинает смотреть на себя и на творчество иначе.