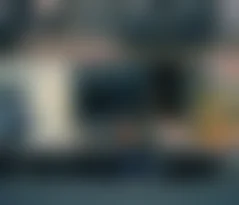Почему все фильмы похожи друг на друга: вспоминаем архетипы, дерзко вламываемся в подсознание.
Знакомая картина: сидишь в кинотеатре, смотришь совершенно новый фильм, и то тут, то там слышишь: «А я знаю, что он сейчас сделает», «Кажется, я это уже видел», «Пойдем отсюда, ничего нового придумать не могут». Верно. И не придумают. Потому что все кино, вся беллетристика, поэзия, драматургия и вообще все на свете а-рхи-ти-пич-но. То есть основано на коллективном бессознательном. Иными словами (Горького): «Что такое человек? Это не ты, не я, не они… нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет… в одном! Понимаешь? Это — огромно! В этом — все начала и концы».

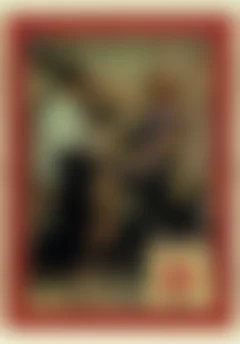

Provincial Library Magna Capitana
Если полистать труды Юнга «Архетипы и коллективное бессознательное», а до кучи «Душа и миф. Шесть архетипов», то можно сделать для себя вывод, что архетип — это ситуация, символ или тип персонажа, присутствующий в культуре всех народов. Если использовать его в искусстве, он сразу вызовет чувство узнавания, и автору, грубо говоря, уже не нужно особо расписывать характер героя или тонкости сложившейся ситуации.
Джозеф Кэмпбелл оттолкнулся от выводов Юнга и вывел свой термин — мономиф. Это некая структура сюжетов, обусловленная особенностями человеческой психики, то есть тем, как наше сознание воспринимает происходящие события. Вот краткое содержание его книги «Тысячелетний герой» (The Hero with a Thousand Faces):
Существует восемь основных архетипов героя. Все они проходят один и тот же путь. Он состоит из 17 этапов, которые можно объединить в три группы — исход, инициация, возвращение. Выглядит это примерно так: зов странствий; отказ откликнуться на зов; сверхъестественное покровительство; стадия испытаний; награда в конце пути; возвращение в общество, необходимое для баланса энергии в мире.

Cinema Legacy Collection / The Hollywood Archive / Photoshot / East News
Герой в его книге предстает как воин, как любовник, как правитель и тиран, как Спаситель, как святой. В контексте нашего разговора интересен только герой как любовник. Попробуем смоделировать его путь, основываясь на том, что удалось понять из этой книги.
Жил-был воинственный царь Саул. Полонил он Шамаханскую царицу и взял ее в жены. Но стал замечать царь какие-то искры между своим любимым сыном Алладином и его мачехой. И решил он оженить сына. Дал ему пращу и сказал, куда камень упадет, там и есть твоя невеста. Метнул Алладин камень, да и пошел следом. Шел-шел, нашел его, а сверху сидит огромная лягушка. Но то не лягушка была, а прекрасная принцесса, дочь царя всех болот Горлума. И полюбили они друг друга.
Не захотел Горлум отдавать дочь свою за Алладина, но перечить ей не умел. Нашел благовидный предлог. Принеси, говорит, мне калым — руно золотое. Был уверен он, что Алладин назад не воротится. А тот пошел. Шел-шел и пришел на остров Суматра. А там — Гретхен Прекрасная. Есть, — говорит, — у батюшки моего Кощея Бессмертного такое руно, да только по-честному тебе его не добыть. Вот тебе нить Ариадны и яд Изоры, а еще камень бел-горюч, ну, и вот эту старую лампу забери, там темно. Висит руно в глубине лабиринта, охраняет его дракон Хаку. Дай ему выпить яду, камень брось, когда выбегут злые тролли, а нить выведет тебя обратно.
Так все Алладин и сделал. Разозлился Кощей, но не стал убивать Алладина, а велел ему совершить 12 подвигов. Тогда, мол, будет тебе и руно, и свобода. Все условия выполнил Алладин. А когда Кощей заартачился, потер он лампу, выпустил зайца, подстрелил утку, разбил яйцо, сломал иглу. И бежал с руном с того острова, а Гретхен Прекрасная за ним.
На обратном пути Алладин влюбляется в Елену. Гретхен дает ей отравленное яблоко. Та засыпает вечным сном. Алладин бросает Гретхен и прижитых с ней детей. Отдает руно Горлуму. Тот пытается хитрить, но погибает. Алладин с принцессой Лягушкой возвращаются к Саулу. Тот их благословляет, но прежде использует свое право первой ночи. С этого начинается следующий сюжет. Но в нем уже будут участвовать герой как правитель-тиран и герой как воин.
Теперь посмотрим на это с точки зрения психоанализа. Налицо тема невыполнимой задачи как необходимого условия, предшествующего брачному ложу. То есть переходу на другой уровень. Каждый родитель не позволяет жизни течь своим чередом и выдумывает тяжкие испытания. Но неожиданные помощники и разные чудеса помогают герою как любовнику со всем справиться.
В нашем случае женщина — и помощник, и награда. Она символ силы, вырванной из рук врага, символ жизненной энергии и даже свободы. Она вторая половина героя. Если он владыка мира, она мир. Если он воин, она его слава. Она образ его судьбы, которую он должен вызволить из неволи. В этой истории присутствует тема единственно верного незримого пути, который открывается герою, следующему за камнем или нитью.
Джозеф Кэмпбелл завершает главу своей книги, посвященную герою как любовнику, так: перед человеком, которого не уводят в сторону от самого себя его чувства, рождающиеся от поверхностного взгляда на вещи, перед человеком, смело отвечающим на всякое проявление движущих сил своего собственного характера, перед тем, кто, как сказал Ницше, есть «колесо, катящееся само по себе», трудности расступаются, и открывается непредсказуемая широкая дорога.
На протяжении всей книги автор подчеркивает, что герой отправляется не только в дальние края, он начинает путешествие вглубь себя, в недра сознания и подсознания. После странствий и побед герой как бы погибает, и возвращается другой, обновленный.
В заключение для пущей объективности следует добавить: многие умные люди не признают эту теорию верой, потому что, мол, автор игнорировал примеры, не вписывающиеся в его схему. А таковых множество. Значит, у нас есть надежда когда-нибудь посмотреть фильм, не испытывая дежавю!