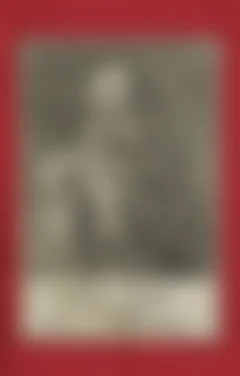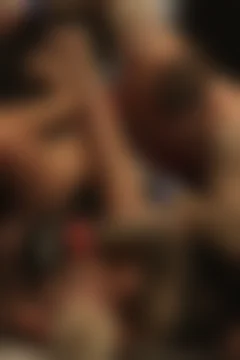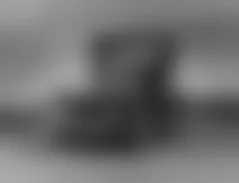19 августа — Всемирный день фотографии. Мы решили отметить его концептуально: в день самого молодого вида изобразительного искусства взглянуть на куда более зрелые его виды, собранные в залах Пушкинского музея, через объектив фотохудожника Михаила Розанова. А заодно попросили автора рассказать об этой невероятной съемке.
В 2021 году меня пригласили снимать ГМИИ для юбилейного альбома. Мне сильно повезло — была пандемия. Народу — никого. Я снимал Версаль, Лувр, Эскориал, Эрмитаж — таких условий, как в Пушкинском, не было нигде. Я работал дней 12 в январе–феврале. Приходил и уходил, когда мне надо.

С музеями всегда договариваешься заранее. Снимаешь только в понедельник. С Лувром я месяца три списывался. А в ГМИИ мне сказали: что считаешь нужным, то и делай.

Нам открыли выход на все крыши. Мы снимали то, что вообще никто никогда не видел. Все эти переходы, купола, инженерные конструкции.




Я хотел снять без перспективного искажения. Мы попробовали и поняли, что нужен подъемник. Так я оказался вровень с портиком и фризом.


Когда снимал колоннаду, у меня был праздник. Я знал, что это для книги, а делать ее будет Игорь Гурович, супердизайнер. Мы с ним уже работали вместе. И я снимал конкретно под его дизайн. Я знал, как он будет макетировать.

Такими, без перспективных искажений, капители еще никто не видел.


Мне очень нравятся классические пространства, пустые, где никого нет и где такая концентрация высокого искусства, что ты чувствуешь ее.


В зале греческого искусства поздней классики и эллинизма очень многое взято из Пергамского алтаря. Мы смотрим на эти барельефы снизу вверх. В Пергаме ты идешь по ступеням, которых здесь нет, и вся эта битва богов с гигантами происходит рядом с тобой. Ты как бы являешься участником событий.

Я снимал четко фронтально. То есть, можно сказать, восстановил изначальный замысел. Ведь Пергамский алтарь в свое время стал переворотом в смысле зрительного восприятия.

Я снимал Белый зал Пушкинского музея, когда он был пустой, без выставок.


Мой любимое место — Итальянский дворик. Очень люблю Возрождение. Когда-то, давным-давно, приходил сюда довольно часто. В то время в музеи никто не ходил. У меня это называлось прогулка в помещении. Брал музыку, наушники и бродил по абсолютно пустому зданию.


Можно было просто сесть на скамейку и наслаждаться атмосферой. Очень полезно пропустить все это через себя. Если бы сейчас людей не было, я бы и сейчас ходил. А так, пользуясь знакомством, иногда заглядываю по понедельникам. Но после всех съемок уже прихожу не как в храм, а как к себе домой.



Чтобы подобраться к статуе Афины (на заднем плане у стены. — Прим. ред.), мы перелезали через ограждение (слева от кариатид. — Прим. ред.) и ползли с аппаратурой по нижней ступеньке под кариатидами. Она гипсовая, очень хрупкая. Наступать на нее нельзя. Можно только ползти. А она узкая.

Глядя снизу вверх на «Кентавромахию», на «Бой за тело Патрокла», вписанные во фронтоны, мы видим персонажей, грубо говоря, от голени. Мне было интересно, а что же там внизу? И я снял панораму с подъемника.

Чтобы снять Нику Самофракийскую, я тоже поднялся до ее уровня. Физически.


По изначальному замыслу, в музей должны были приходить студенты художественных факультетов. Поэтому за счет стеклянной крыши добились очень ровного освещения. Сейчас добавили электричество, но свет настолько правильно организован, что не надо ничего ломать. Просто ищи правильные углы и точки.
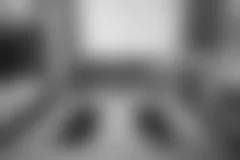

Лицо кондотьера в Итальянском дворике воспринимается по-разному, если смотреть на него с пола и с лестницы. К тому же за счет арок меняется геометрия.


Есть точки, с которых музей никто никогда не видел. Мы снимали из самых укромных мест. Когда показывали материал сотрудникам, они не верили, что все это у них. Я реально отснял каждый сантиметр. Хотя в фотоальбом «Волхонка, 12» не вошли залы живописи. Уже не хватало страниц.



Люблю выстроенные пространства. Тишина, никого нет, и ты работаешь. Идеальные условия. Мне никто не мешал, а только помогали. Я так благодарен Пушкинскому музею за эту возможность снимать. Ничего подобного нигде не было.