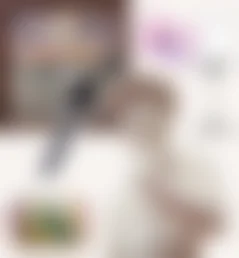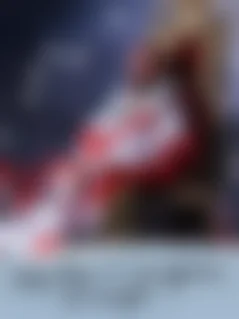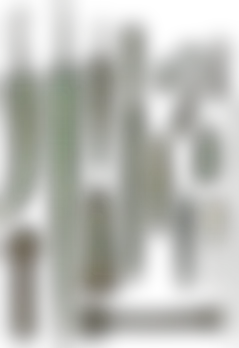10 минут в день
Парижский сплин. 1869
Шарль БодлерПосвящение. Арсену Гуссэ
Дорогой друг, посылаю вам небольшое произведение, о котором, по совести, нельзя сказать, что у него нет ни хвоста, ни головы, ибо как раз наоборот — каждая его часть может попеременно служить то головою, то хвостом. Обратите, пожалуйста, внимание на то, какие изумительные удобства представляет эта комбинация для всех нас: для вас, для меня и для читателя. Мы можем прервать в любой момент: я — свои мечтания, вы — просмотр рукописи, читатель — свое чтение, ибо я не связываю своенравной воли его бесконечной нитью сложнейшей интриги. Выньте любой позвонок, и обе части этого капризно извивающегося вымысла соединятся между собой без малейшего затруднения. Разрубите его на множество частей — и вы увидите, что каждая из них будет жить сама по себе. Вся надежда, что некоторые из этих отрезков окажутся настолько живыми, чтобы вам понравиться и позабавить вас, я дерзаю посвятить вам всего змея целиком.
Я должен сделать вам маленькое признанье. Перелистывая по меньшей мере в двадцатый раз знаменитую книгу Алоизия Бертрана Gaspard de la Nuit (книга, известная вам, мне и нескольким из наших друзей, не должна ли считаться знаменитой?), я набрел на мысль — попытаться сделать нечто в том же роде, применив к изображению современной жизни или, вернее, духовной жизни одного современного человека, тот самый прием, который был применен им к описанию жизни былых времен, столь странной для нас и столь живописной.
Кто из нас не мечтал в часы душевного подъема создать чудо поэтической прозы, музыкальной без ритма и без рифмы, настолько гибкой и упругой, чтобы передать лирические движения души, неуловимые переливы мечты, содроганья совести? Из непосредственного знакомства с жизнью огромных городов, из постоянных столкновений с ее многообразными проявлениями — вот откуда возникает главным образом эта неотступная мысль. Не пытались ли вы сами, дорогой друг, воспроизвести в песне пронзительный крик Стекольщика и передать в лирической прозе те тоскливые настроения, которые навевает этот крик, доносящийся до самых мансард сквозь густой туман улицы? Но, если сказать правду, боюсь, что это соревнование оказалось для меня не из счастливых. Едва начав работу, я заметил, что не только очень далек от своего таинственного и блистательного образца, но даже делаю нечто (если считать это хоть чем-нибудь), удивительно непохожее на него,— обстоятельство, которым всякий другой на моем месте, наверно, возгордился бы, но которое представляется лишь постыдным человеку, полагающему высшую честь поэта в осуществлении именно того, что было им задумано.
Сердечно преданный вам Ш. Б.
I. Чужестранец
– Кого ты больше всего любишь, скажи, загадочный человек? Отца, мать, сестру или брата?
– У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата.
– Друзей?
– Смысл этого слова до сих пор остался неизвестен мне.
– Отчизну?
– Я не знаю, под какой широтой она находится.
– Красоту?
– Я любил бы ее — божественною и бессмертною.
– Золото?
– Я ненавижу его, как вы ненавидите Бога.
– Так что же ты любишь, удивительный чужестранец?
– Я люблю облака… летучие облака… в вышине… чудесные облака!
II. Горе старухи
Сморщенная старушка вся просияла, увидав хорошенького ребенка, которого все баловали и ласкали,— прелестное создание, столь же хрупкое, как и она, маленькая старушка, и как она безволосое и беззубое. И она подошла к нему, желая позабавить и приласкать его.
Но испуганный ребенок в ужасе стал отбиваться от ласк одряхлевшей женщины, оглашая дом своим визгом.
Тогда бедная старуха снова ушла в свое вечное одиночество и, плача в углу, говорила: «Ах! Для нас, несчастных и состарившихся женщин, прошла пора нравиться даже невинным младенцам, и мы внушаем отвращение маленьким детям, когда подходим к ним с лаской!»
III. Исповедь художника
Как глубоко проникает к нам в душу угасание осенних дней! О, как глубоко — до боли! Ибо есть очаровательные ощущения, смутность которых не исключает остроты, и нет жала более острого и язвительного, чем жало Бесконечности.
Какое великое наслаждение погружать взор в беспредельность неба и моря! Одиночество, тишина, бесподобная ясность лазури! Маленький парус, трепещущий на горизонте и в своей незначительности и затерянности напоминающий мое безнадежное существование, однообразный говор волн — все это мыслит во мне или я мыслю во всем этом (ибо в величавой грезе так быстро затеривается наше «я»!); да, все это, говорю я, мыслит, но мыслит звуками и красками, без доказательства, без силлогизмов, без выводов. Однако эти мысли — исходят ли они от меня или от окружающих меня вещей — скоро становятся слишком яркими. Напряженность наслаждения делается мучительной, причиняет почти физическую боль; мои чрезмерно натянутые нервы дают только кричащие болезненные ощущения.
И теперь глубина неба подавляет меня; прозрачность его лазури приводит меня в исступление. Бесчувственность моря, неизменность зрелища возмущают меня… О, неужели же нужно вечно страдать или вечно бежать от прекрасного? Природа, безжалостная чародейка, всегда побеждающая соперниц, оставь меня! Не испытывай далее моих желаний и моей гордости!.. Изучение прекрасного — это поединок; в страхе кричит художник перед своим поражением.
IV. Шутник
Это было шумное рождение нового года: хаос грязи и снега, пересекаемый тысячью движущихся карет, блистающий игрушками и сластями, кишащий алчными пороками и разочарованиями; официальный разгул большого города, способный помрачить разум самого стойкого отшельника.
Среди всего этого беспорядка и суматохи быстрой рысцой трусил осел, подгоняемый парнем с кнутом в руке.
В ту минуту, когда осел огибал угол тротуара, какой-то франт в перчатках, в сногсшибательном галстуке, весь точно лакированный, задыхающийся в тисках своего новенького платья, церемонно склонился перед смиренным животным и, снимая шляпу, произнес: «Позвольте пожелать вам счастливого и веселого Нового года!» Потом с видом удовлетворения обернулся, как бы обращаясь к каким-то сотоварищами приглашая их поддержать его самодовольство одобрением.
Осел не заметил этого изящного шутника и продолжал бежать туда, куда призывал его долг. Меня же внезапно охватила безмерная ярость на этого великолепного глупца, который, как мне казалось, олицетворял собою остроумие всей Франции.
V. Двойная комната
Комната, похожая на грезу, поистине бесплотная комната, где вся недвижная атмосфера слегка окрашена розовым и голубым цветами.
Здесь душа погружается в лень, в ароматическую ванну лени, напоенной сожалениями и желаниями. Это что-то сумеречное, голубовато-розоватое; греза сладострастия во время затмения солнца.
Мебель здесь расплывчатая, удлиненная, томная. Она как будто грезит, живет какой-то сомнамбулической жизнью, подобно растениям и минералам. Ткани говорят немым языком, как цветы, как небеса, как заходящие солнца.
Но стенам — никакого художественного хлама. В сравнении с чистой мечтой, с непосредственным впечатлением, всякое законченное искусство, всякое положительное искусство — богохульство. Здесь во всем царит умеренная ясность и очаровательная смутность гармонии.
Неуловимый изысканный аромат с примесью легкой влажности пропитывает воздух, где дремлющий дух убаюкивается ощущениями оранжерейной теплоты. Кисея струями ниспадает вдоль окон и вокруг постели, расплываясь белоснежными волнами. На этой постели покоится Кумир, властительница грез. Но отчего же она здесь? Что привело ее сюда? Какая волшебная власть перенесла ее на этот трон мечтаний и сладострастья? Не все ли равно? Она здесь! Я узнаю ее.
Да, это ее глаза, огонь которых пронизывает сумрак, нежные и страшные глаза — я узнаю их по их ужасающему коварству! Они притягивают, они покоряют, они пожирают взор неосторожного смертного, их созерцающего. Я так часто изучал эти черные звезды, которые внушают любопытство и восторг.
Какой добрый гений окружил меня тайной, тишиной, покоем и благоуханиями? О блаженство! То, что мы обыкновенно называем жизнью, даже в самом счастливом ее проявлении не имеет ничего общего с этой высшей жизнью, которую я теперь познал, которой я упиваюсь минута за минутой, секунда за секундой.
Нет! Не существует более ни минуты, ни секунды! Время исчезло; вечность воцарилась, вечность блаженства!
Но вот раздался грозный, тяжеловесный стук в дверь и, как в адских сновидениях, мне показалось, будто меня ударили заступом в грудь.
И затем вошел Призрак. Это судебный пристав пришел терзать меня именем закона; или подлая содержанка явилась со своими требованиями, и прибавляет к мукам моей жизни пошлые мелочи своего существования; или это посыльный от какого-нибудь редактора, требующего продолжения рукописи. Райская комната кумира, властительница грез, Сильфида, как говорил великий Рене,— все это волшебство исчезло при грубом стуке Призрака. О ужас! Я очнулся! Я вспомнил! Эта конура, эта обитель вечной скуки — ведь это мое жилище. Вот нелепая мебель, запыленная и изломанная, потухший, холодный, заплеванный камин, унылые окна со следами дождя на пыльных стеклах, рукописи, испещренные помарками и растрепанный календарь, где отмечены карандашом зловещие сроки! И благоухание иного мира, которым я упивался с такой утонченностью — увы! — оно сменилось зловонием табачного дыма с примесью какой-то отвратительной плесени. Отовсюду веет затхлостью и запустением. В этом тесном, но преисполненном скуки и отвращения мире один только знакомый предмет улыбается мне: склянка с опиумом*, старая, коварная подруга — как все подруги, увы, сулящая ласки и таящая измену.
О да! Время вошло в свои права; Время вновь стало властелином и вместе с отвратительным стариком вернулась вся его дьявольская свита: Воспоминания, Сожаления, Судороги, Страхи, Тоска, Кошмары, Гнев и Неврозы.
Поверьте, теперь секунды отчеканиваются громко и торжественно, и каждая из них, вылетая из часов, громко говорит: «Я Жизнь, невыносимая и неумолимая Жизнь!»
Есть только одна Секунда в человеческой жизни, которой дано нести благую весть, благую весть, внушающую всем неизъяснимый ужас. Да! Время царствует по-прежнему, оно снова провозгласило свою тяжкую диктатуру. И по-прежнему оно гонит меня, как вола, своей рогатиной: «Ну тащись, скотина! Обливайся потом, жалкий раб! Живи, живи, проклятый!».
*Редакция категорически против употребления любых наркотических или психотропных веществ. Они опасны для здоровья, их незаконное распространение влечет уголовную ответственность. Статья носит исключительно информационный характер.
VI. У каждого своя химера
Под широким серым небом, на широкой пыльной равнине, где нет ни дорог, ни травы, ни даже репейника и крапивы, я встретил вереницу людей, которые шли, согнувшись. Каждый из них тащил на спине огромную Химеру, тяжелую, как мешок муки или угля или как вооружение римского пехотинца. Но не мертвой ношей было это чудовище, нет — оно сжимало, обвивало человека своими сильными, упругими мускулами, цеплялось за его шею длинными когтями и фантастическая голова его возвышалась над челом человека наподобие тех страшных шлемов, какие употреблялись древними воинами в расчете навести ужас на неприятеля. Я заговорил с одним из этих людей и спросил у него, куда же они идут? Он ответил мне, что этого не знает никто — ни он, ни другие,— но что, очевидно, они идут куда-то, ибо их подталкивает непобедимая потребность идти.
И странно: ни один из этих путников, казалось, не тяготился зверем, повисшим на его спине и вцепившимся в его шею, казалось, они смотрят на него, как на часть самих себя. На этих усталых, сосредоточенных лицах не видно было никакого отчаяния. Под тоскливым небосводом шли они, утопая в пыли равнины столь же печальной, как и это небо, шли с тупо покорным видом людей, которые обречены вечно надеяться. И шествие прошло мимо меня, потонуло вдали, на горизонте — там, где округленная поверхность земли ускользает от любопытного человеческого взора. И в течение нескольких минут я упорно силился постичь эту тайну, но скоро мною овладело непобедимое Равнодушие — и я согнулся под его тяжестью еще ниже, чем эти люди под давящим бременем своих Химер.
VII. Шут и Венера
Какой восхитительный день! Под жгучим солнечным оком огромный парк млеет, как юность под властью Любви.
Ни единым звуком не выдает себя восторг, разлитый во всем; воды — и те словно уснули. Непохожая на людские празднества, здесь свершается молчаливая оргия.
Кажется, будто все возрастает свет и все больше сверкают окружающие предметы, будто опьяненные цветы сгорают желанием соперничать с лазурью неба силою своих красок, будто от зноя стали видимы ароматы и возносятся к солнцу, как дым. Но вот среди этого всеобъемлющего упоения увидел я скорбное существо.
У ног громадной Венеры я увидел одного из тех нарочитых безумцев, одного из тех добровольных шутов, чья обязанность забавлять королей, когда их гнетет Раскаяние или Скука. Наряженный в блестящий и смешной костюм, с рогами и погремушками на голове, съежившись у подножия статуи, он поднял полные слез глаза к бессмертной Богине.
И глаза его говорят: «Я ничтожнейший и самый одинокий из смертных, лишенный любви и дружбы, более жалкий, чем самое презренное животное. А между тем и я, ведь и я создан, чтобы постигать и чувствовать бессмертную Красоту! О Богиня! Сжалься над моей скорбью и моим томительным бредом!»
Но неумолимая Венера смотрит вдаль неведомо на что своими мраморными глазами.
VIII. Собака и флакон
Мой славный пес, мой добрый пес, мой милый песик, подойди и понюхай чудесные духи, купленные у лучшего в городе парфюмера.
И собака, помахивая хвостом, что, по моему мнению, соответствует у этих бедных существ смеху или улыбке, подходить и с любопытством прикладывает свой влажный нос к отверстию флакона, потом, внезапно попятившись в ужасе, начинает как бы с укоризною лаять на меня.
О презренный пес! Если б я предложил тебе сверток с пометом, ты бы стал нюхать его с наслаждением и, быть может, сожрал бы его. Таким образом недостойный товарищ моей печальной жизни, ты уподобляешься публике, которой всегда нужно преподносить не изысканные ароматы, ибо они раздражают ее, а старательно подобранные нечистоты.
IX. Плохой стекольщик
Есть натуры чисто созерцательные и совершенно неспособные к действию, которые, однако, под влиянием какого-то таинственного, непонятного побуждения действуют иногда с такою стремительностью, на какую они сами не считали себя способными.
Человек, который из боязни найти у привратника огорчительное известие, малодушно бродит целый час перед дверью, не решаясь войти, который по две недели держит нераспечатанным письмо или полгода колеблется приступить к делу, необходимость которого выяснилась год тому назад, вдруг чувствует, что какая-то непреодолимая сила толкает его к действию, как стрелу, когда ее спускают с лука. Моралист и врач, претендующие на всезнание, не могут объяснить, откуда столь неожиданно появляется эта сумасшедшая энергия в таких ленивых и разнеженных душах и каким образом неспособные на самые простые и самые необходимые действия, они вдруг находят в себе избыток смелости для совершения самых нелепых, часто даже самых опасных поступков.
Один из моих друзей, безобиднейший мечтатель, поджег однажды лес, чтобы посмотреть, с такой ли легкостью занимается огонь, как это обыкновенно утверждают. Десять раз подряд опыт кончался неудачей, но на одиннадцатый удался, и даже слишком удался.
Другой закурил сигару у бочки с порохом, чтобы посмотреть, чтобы узнать, чтобы испытать судьбу, чтобы заставить себя проверить собственное мужество, чтобы рискнуть, чтобы изведать прелесть страха — словом, ни с того ни с сего, из каприза, от безделья.
Это вид энергии, порождаемый скукою и оторванностью от жизни; и те, в ком она проявляется так внезапно, по большей части, как я уже сказал, самые беспечные и ленивые, и самые мечтательные из людей.
Иной до того робкий, что опускает глаза даже при встрече с мужчинами и должен напрячь всю свою слабую волю, чтобы войти в кафе или подвергнуться контролю при входе в театр, где контролеры кажутся ему, как Минос, Эак и Радамант, вдруг бросится на шею проходящему мимо старику и восторженно расцелует его на глазах удивленной толпы.
Почему? Да потому… не потому ли, что его лицо показалось ему так неотразимо симпатичным? Возможно, но естественнее предположить, что он и сам не знает почему.
Я не раз был жертвой этих приступов, этих порывов, внушающих мысль о каких-то коварных демонах, которые вселяются в нас и заставляют нас исполнять свои самые нелепые веления. Однажды утром я проснулся мрачный, печальный, усталый от праздности, и, как мне казалось, способный совершить нечто великое, какой-нибудь великолепный поступок, и, на свое несчастье, я открыл окно.
(Прошу заметить, что дух мистификации отнюдь не является результатом предварительных размышлений или соображений, а внезапным вдохновением, и имеет много общего хотя бы по своей горячечной стремительности с тем состоянием, которое врачи называют истерическим, а люди, понимающие немного более демоническим, с тем состоянием, которое вызывает в нас неудержимое влечение ко всяким рискованным и неприличным поступкам.) Первый, кого я заметил на улице, был стекольщик, пронзительный, режущий крик которого доносился ко мне сквозь густой грязный воздух Парижа. Впрочем, я не мог бы объяснить, почему меня вдруг охватила по отношению к этому бедняку такая внезапная и непобедимая ненависть.
«Эй, вы!» — позвал я его. Между тем я не без удовольствия соображал, что комната моя находится на шестом этаже, a лестница так узка, что при подъеме ему придется испытать немало затруднений и неоднократно задевать о стены углами своей хрупкой ноши.
Наконец он появился. Я с любопытством пересмотрел все его стекла и сказал ему: «Как? У вас нет цветных стекол? Розовых, красных, синих, волшебных, райских стекол? Ах вы бесстыдник! Вы осмеливаетесь расхаживать по квартирам бедняков, не имея даже стекол, сквозь которые жизнь казалась бы нам прекраснее?» И я быстро вытолкал его на лестницу, по которой он начал спускаться, спотыкаясь и ворча.
Я вышел на балкон, схватил цветочный горшок и, когда стекольщик показался на улице, бросил прямо вниз мой боевой снаряд, который задел за край его ноши. Удар свалил его с ног и, падая, он разбил последние остатки своего жалкого имущества, которое разлетелось с оглушительным звоном, наподобие треснувшего под ударом молнии хрустального дворца.
И опьяненный своим безумием, я яростно крикнул ему: «Чтобы жизнь казалась нам прекраснее!..»
Эти нервные выходки небезопасны и обходятся часто недешево, но что за дело до уничтожающего и вечного проклятия тому, кто в одной секунде нашел всю бесконечность наслаждения.
X. В час ночи
Наконец я один! Доносится лишь грохотанье нескольких запоздавших и усталых экипажей. Несколько часов можно провести если не в покое, то хоть в молчании. Наконец-то! Тирания человеческого лица прекратилась и я буду страдать лишь от себя самого. Наконец-то! Я могу омыться в ночном мраке. Прежде всего повернем дважды ключ в замке. Мне кажется, что этот поворот ключа увеличит мое одиночество и укрепит баррикады, отделяющие меня теперь от мира.
Ужасная жизнь! Ужасный город! Припомним наш день: виделся с несколькими литераторами, из которых один спросил меня, можно ли проехать в Россию сухим путем (он, по-видимому, считал Россию островом); вел отважный спор с редактором журнала, отвечавшим на все мои возражения: «Наш орган — орган честных людей», разумея под этим, что все другие журналы редактируются жуликами; раскланялся с двумя десятками людей, из которых пятнадцать мне неизвестны; обменялся рукопожатиями в таком же количестве, причем не имел предосторожности запастись перчатками; чтобы как-нибудь убить время, пока шел проливной дождь, завернул к танцовщице, которая предложила мне нарисовать для нее костюм «Венеры»; ухаживал за театральным директором, который выпроводил меня со словами: «Вы, пожалуй, хорошо сделаете, если обратитесь к З. — это самый тяжеловесный, самый глупый и самый знаменитый из всех моих авторов, у него вы, может быть, и добьетесь чего-нибудь. Повидайтесь с ним, а затем увидим». Похвастался (к чему?) несколькими гадкими поступками, которых никогда не совершал, и малодушно отрекся из фанфаронства и неуважения к человеческому достоинству от нескольких других, которые совершил с радостью; отказал другу в мелкой услуге и дал письменную рекомендации отъявленному плуту… Уф! все ли это еще?
Недовольный всем и недовольный собою, как бы я хотел найти искупление и почерпнуть немного бодрости в тишине и одиночестве ночи! Души тех, кого я любил, души тех, кого я воспевал, укрепите меня, поддержите меня, удалите от меня ложь и тлетворные испарения мира. А Ты, Господь Бог мой, окажи мне милость, дай мне создать несколько прекрасных стихов, которыми бы я доказал самому себе, что я не последний из людей, что я не ниже тех, кого я презираю!
XI. Женщина-зверь и капризная модница
Право, моя милая, вы утомляете меня безмерно и безжалостно; послушать, как вы вздыхаете, так можно подумать, что вы страдаете больше, чем шестидесятилетние старухи, подбирающие последние колосья на сжатых нивах, больше, чем нищенки, которые собирают корки хлеба у дверей кабаков.
Если бы по крайней мере ваши вздохи выражали угрызения совести, то они до известной степени делали бы вам честь, но они говорят только о пресыщении довольства и об утомлении праздности. К тому же вы не перестаете рассыпаться в ненужных словах: «Любите меня хорошенько! Я так в этом нуждаюсь! Утешьте меня, приласкайте меня и так, и этак!» Ну вот, я хочу попытаться вылечить вас, может быть, мы найдем подходящее средство за пару су среди праздничного веселья и не уходя слишком далеко отсюда.
Рассмотрим, хорошенько — прошу вас! — вот эту крепкую железную клетку, в которой суетится, вопя, как грешник в аду, сотрясая решетку, как орангутанг, разъяренный заточением, в совершенстве подражая то круговым прыжкам тигра, то нелепым раскачиваниям белого медведя, это полосатое чудовище, обликом своим смутно напоминающее вас. Это чудовище одно из тех, которых обыкновенно называют «мой ангел», т. е. женщина. Другое чудовище, которое с палкой в руках орет благим матом,— это муж ее. Он посадил свою законную жену на цепь, как зверя, и показывает ее на пригородных ярмарках — с разрешения властей, разумеется.
Присмотритесь внимательно! Поглядите, с какой жадностью (может быть, совсем не напускной!) она раздирает живых кроликов и кричащих птиц, брошенных ей ее вожатым. «Полно,— говорит он,— не нужно поедать все свое добро в один день». С этими мудрыми словами он безжалостно выхватывает у нее добычу, размотанные внутренности которой цепляются за зубы кровожадного зверя — женщины, хотел я сказать.
Ну! хороший удар палкой, чтобы успокоить ее! Она кидает страшный, полный вожделения взгляд на отнятую пищу. Боже праведный! Палка не бутафорская. Слышали ли вы этот звук удара по телу, хоть оно и прикрыто накладною шерстью? Вот теперь-то у нее глаза выкатились на лоб, она рычит более естественно. Она вся мечет искры от ярости, как железо под ударами молота.
Таковы супружеские нравы этих двух потомков Адама и Евы, этих творений рук твоих, о Господи! Эта женщина бесспорно несчастна, хотя все же, быть может, ей не чужды щекочущие наслаждения славы. Есть несчастия более непоправимые и ничем не вознаграждаемые. Но в том мире, в который она была заброшена судьбой, она не могла уразуметь, что женщина заслуживает иной участи.
Теперь вернемся к нам с вами, милая жеманница! После того, как поглядишь на этот ад, наполняющий Вселенную, что хотите вы, чтобы я думал о вашем милом аду, вы, отдыхающая только на тканях, столь же нежных, как ваша кожа, вы, питающаяся только прожаренным мясом, которое ловкий слуга заботливо нарезывает для вас кусочками?
Что же могут значить для меня все эти маленькие вздохи, вздымающие вашу надушенную грудь, неуязвимая кокетка? И все эти ужимки, почерпнутые из книг, и эта вечная меланхолия, способная вызвать в зрителе чувство, совершенно не похожее на сострадание? Право, у меня иногда является желание показать вам, что такое истинное несчастие. Как посмотришь на вас, прекрасная неженка, когда вы ступаете по грязи, с глазами, мечтательно обращенными к небу, как будто вы просите у него короля,— точь-в-точь молодая лягушка, вздыхающая по Идеалу. Если вы презираете короля всех ничтожеств (каковым я теперь являюсь, как нам хорошо известно), берегитесь журавля, который хрустнет вашими косточками, проглотит и уничтожит вас в свое удовольствие!
Хотя я и поэт, но меня все же не так легко одурачить, как вы думаете, и если вы слишком часто будете утомлять меня своим жеманством и нытьем, я поступлю с вами, как с женщиной-зверем, или выброшу вас за окошко, как пустую бутылку.
XII. Толпа
Не каждый умеет окунуться, погрузиться в толпу: наслаждаться ею — это своего рода искусство, и превратить для себя человеческий род в источник бодрящего наслаждения способен лишь тот, в кого добрая фея с колыбели вдохнула склонность к переодеваниям, умение менять маски, отвращение к домашнему очагу и страсть к путешествиям.
Толпа, одиночество — слова, равные по смыслу и легко превращаемые одно в другое творческим духом поэта. Кто не умеет населять свое одиночество, тот не сумеет чувствовать себя одиноким среди людской суеты.
Таково несравненное преимущество поэта: он может по желанию быть и самим собою, и ближним своим. Подобно блуждающим душам, которые ищут для себя телесной оболочки, он может, когда захочет, воплотиться в любое существо. Ему одному все открыто, а если иные уголки как будто и остаются ему недоступными, то это лишь потому, что, по его мнению, они и не стоят внимания. Одинокий задумчивый фланер находит своеобразное опьянение в этом неисчерпаемом общении с миром. Хотя, кто легко сливается с толпой, испытывает лихорадочные наслаждения, которых никогда не познает эгоист, замкнутый, как сундук, или неподвижный, как улитка, ленивец. Он живет всеми профессиями, переживает, как свои собственные, все радости и горести, какие преподносит ему случай. То, что люди называют любовью, так ничтожно, так ограниченно, так жалко по сравнению с этой необъятной оргией, с этой святой проституцией души, которая отдается целиком, со всем, что есть в ней поэтического и теплого, всякой открывающейся для нее неожиданности, всему неизвестному и мимолетному.
Не мешает напомнить иногда счастливцам мира сего — хотя бы для того, чтобы сбить с них на мгновение нелепую спесь,— что есть радости более высокие, чем те, которые доступны им, более утонченные и более захватывающие. Основателям колоний, народным пастырям, священникам-миссионерам, загнанным на край свет должны быть не чужды эти неизъяснимые упоения; и среди обширной семьи, созданной их гением, они, без сомнения, посмеиваются иногда над теми, кто скорбит об их бурном жребии и об их целомудренной жизни.
XIII. Вдовы
Вовенарг говорит, что есть в общественных садах аллеи, посещаемые главным образом разочарованными честолюбцами, неудачливыми изобретателями, пасынками славы, разбитыми сердцами — всеми теми взбаламученными и замкнувшимися душами, в которых не отзвучали еще последние вздохи грозы и которые прячутся от наглого взгляда веселых и праздных людей. Эти тенистые убежища — место встречи искалеченных в жизненной борьбе.
Поэт и философ охотнее всего направляют сюда свои жадные помыслы. Здесь их ждет верная добыча. Ибо если есть места, посещением которых они пренебрегают, как мне приходилось высказывать, то это именно веселые убежища богатства. В их бессмысленной шумливости нет для них ничего притягательного. И наоборот, их неотразимо влечет к себе все слабое, разбитое, удрученное, осиротелое.
Опытный глаз никогда не ошибется в этом. В этих окаменелых или истомленных чертах, в этих глазах, впалых и потухших или сверкающих еще последними вспышками борьбы, в этих многочисленным и глубоких морщинах, в этих походках, слишком медленных или слишком неровных, он без труда читает бесчисленные повествования обманутой любви, неоцененной преданности, невознагражденных усилий, безропотно и покорно перенесенного голода и холода. Замечали ли вы когда-нибудь вдов на этих одиноких скамейках, бедных вдов? В трауре ли они или нет, их всегда легко узнать. Впрочем, в трауре бедняка всегда чего-нибудь недостает, и это отсутствие гармонии делает его еще более удручающим!.. Бедняк принужден скаредничать в своем горе, богатый же выставляет его напоказ во всей его полноте.
Которая из этих вдов печальнее и внушает больше жалости,— та ли, что тащит за руку ребенка, неспособного разделить ее грустные мечты, или та, что совсем одинока? Не знаю… Мне случилось однажды в течение нескольких часов следить за такой печальной старой женщиной: прямая, с твердо поднятой головой, в небольшой поношенной шали — она всем существом своим выражала гордость стоика. Полное одиночество, очевидно, осудило ее на привычки старого холостяка, и чисто мужской уклад жизни придавал таинственную пикантность строгости ее нравов. Не знаю, как и в каком скверном кафе она позавтракала. И последовал за нею в читальню; и долго следил за тем, как глаза ее, когда-то выжженные слезами, внимательно искали в газетах известий, очевидно, для нее чрезвычайно важных.
Наконец после полудня, под очаровательным осенним небом, под небом, с которого роями слетают к нам воспоминания и сожаления, она уселась в отдаленном углу сада, чтобы вдали от толпы прослушать один из тех концертов, которыми военные оркестры угощают парижский народ. Это был, несомненно, маленький кутеж для этой старой невинной души (или старой очистившейся от грехов души), вполне заслуженное утешение после одного из тех тяжелых дней без преданного друга, без болтовни, без радости, одного из тех дней, которые Бог посылал ей, быть может, уже много лет сряду, по триста шестьдесят пять раз в году.
А вот другая.
Я никогда не могу удержаться, чтобы не взглянуть если и не с полным благожелательством, то по крайней мере с любопытством, на толпу отверженных, теснящихся вокруг ограды общественного сада, в котором играет музыка. Оркестр бросает в ночную тьму звуки ликования, победы или сладострастья. Длинные платья извиваются, играя переливами складок; взгляды встречаются; празднолюбцы, уставшие от безделья, прохаживаются, притворяясь, что небрежно и лениво наслаждаются музыкой. Все здесь кругом богатое, счастливое, нет ничего, что не дышало бы беспечностью и радостной готовностью отдаться жизни, ничего, кроме этой темной толпы: она напирает на решетку, ловя обрывки даровой музыки, приносимые ветром, и любуясь сверкающей пучиной, которая кипит по ту сторону ограды.
Это всегда интересное явление — отражение радости богатого в глазах бедняка. Но в тот день я увидел среди этой толпы, одетой в блузы и ситцевые платья, существо, благородство которого было ярким контрастом с окружающей вульгарностью. Это была женщин высокая, величественная и настолько благородная в своей осанке, что я не видел образа, подобного ей, даже в вереницах аристократических красавиц прошлого. От всего ее существа веяло дыханием надменной добродетели. Ее лицо, грустное и исхудалое, вполне гармонировало с глубоким трауром ее одежды. И она так же, как эта чернь, с которой она смешалась, но которой не замечала, смотрела на светящийся огнями мир глубоким взглядом и слушала, тихо покачивая головою.
Странное видение! «Несомненно,— подумал я,— эта бедность, если вообще тут есть бедность, несовместима с мелочной экономией; слишком благородно для этого ее лицо. Почему же она добровольно остается среди этой толпы, где она выделяется таким ярким пятном?»
Но когда я проходил мимо нее, мне показалось, что я угадал причину. Эта высокая женщина, вдова, держала за руку ребенка, как и она одетого в черное; как ни мала была входная плата, эти гроши могли пойти на удовлетворение одной из потребностей этого маленького создания или даже на какую-нибудь прихоть его, на игрушку.
И, вероятно, она возвратилась пешком, размышляя и мечтая, одинокая, всегда одинокая; ведь ребенок шумлив, эгоистичен, нечуток и нетерпелив, и он не может даже, как настоящее животное, как собака или кошка, быть поверенным одинокой скорби.
XIV. Старый паяц
Повсюду разливался, растекался, весело толпился отдыхающий народ. Это был один из тех народных праздников, на которые уже задолго рассчитывают разные комедианты, фокусники, вожаки зверей и странствующие торговцы, в надежде вознаградить себя тут за убытки глухого времени года.
В такие дни, кажется мне, народ забывает все — и горе, и труд, он становится похож на ребенка. Для малышей это день свободы, отсрочки школьных ужасов на целые сутки. Для взрослых — это перемирие с недобрыми силами жизни, роздых от нескончаемого напряжения и борьбы.
Даже светский человек и человек, живущий умственным трудом, не всегда может устоять против этого заразительного народного веселья. Волей-неволей и они вовлекаются в атмосферу общей беспечности. Что касается меня, то, как истый парижанин, я никогда не упускаю случая пройтись вдоль всех этих балаганов, воздвигающихся по особо торжественным дням.
Поистине, между ними шло отчаянное соревнование: писк, рев, вой неслись со всех сторон. Крики смешивались с грохотанием меди и взрывами выстрелов. Комедианты и шуты коверкали на все лады свои смуглые лица, загоревшие от ветра, дождя и солнца, и с апломбом уверенных в себе актеров отпускали остроты и шутки, назидательные и тяжеловесные, как юмор Мольера. Атлеты, гордые своими чудовищными членами, со срезанными, как у орангутанга черепом и лбом, величаво выступали в своих вязаных панталончиках, выстиранных накануне ради предстоящего торжества. Танцовщицы, прекрасные, как феи или как принцессы, прыгали и изгибались при свете фонарей, осыпавших искрами их юбочки.
Повсюду свет, пыль, гам, веселье, суета; одни раскошеливались, другие — наживались, и те и другие с одинаковым оживлением. Дети цеплялись за юбки матерей, выпрашивая какой-нибудь леденец, или взбирались на плечи отцов, чтобы лучше рассмотреть фокусника, ослепительного, как божество. И повсюду носился, заглушая другие ароматы, запах кипящего на сковороде масла — как бы ладан этого празднества.
В самом конце, на краю ряда балаганов, словно стыд загнал его туда, подальше от всего этого великолепия, я увидел бедного паяца, сгорбившегося, дряхлого, немощного — какую-то развалину человека. Он стоял, прислонившись к одному из столбов своей палатки, палатки более жалкой, чем хижина какого-нибудь совсем отупевшего дикаря, и до того убогой, что два оплывших дымящих огарка казались все еще недостаточно скромным освещением для него. Повсюду радость, нажива, шумное веселье, повсюду уверенность в завтрашнем дне, повсюду неистовый разгул жизненных сил. Здесь — беспросветная нищета, нищета наряженная к довершению ужаса в смешное тряпье; сама нужда лучше всякого искусства создавала здесь бьющий в глаза контраст. Он не смеялся, несчастный! Он не плакал, он не плясал, не жестикулировал, не кричал, не пел ни веселой, ни жалобной песни, не взывал о помощи. Он был нем и неподвижен. Он смирился, он сдался. Участь его была решена.
Но каким глубоким, незабвенным взглядом обводил он эту толпу и эти огни, живой поток которых останавливался в нескольких шагах от его отталкивающего, нищенского пристанища! Я почувствовал, что горло мое сжимается страшной рукой истерии и взгляд мой, казалось, застилается теми непокорными слезами, которые словно не хотят пролиться из глаз.
Что делать? Не спросить же у этого несчастного, какую редкость, какое диво может он показать там, в этих зловонных потемках за раздвижным занавесом? Правду сказать, я стоял в нерешительности, и смейтесь, если угодно, над причинами этой нерешительности, я признаюсь, что боялся унизить его. Наконец только что я надумал положить ему, проходя, на подмостки немного денег, в надежде, что он поймет мое побуждение, как вдруг стремительный натиск толпы, вызванный каким-то переполохом, увлек меня прочь от него.
И оборачиваясь, словно преследуемый этим видением, я старался уяснить себе внезапно охватившую меня душевную боль, и невольно подумал: «Ведь это я видел прообраз состарившегося писателя, пережившего то поколение, которому он служил источником блестящих забав, старого поэта, не имеющего ни друзей, ни семьи, ни детей, доведенного нищетой и неблагодарностью общества до полного падения и неспособного более привлечь в свой балаган этот изменчивый свет».
XV. Пирог
Я путешествовал. Окружавший меня пейзаж исполнен был величия и благородства неотразимого. И в тот момент это, несомненно, сообщилось моей душе. Мысли мои витали с воздушною легкостью, низменные страсти — и ненависть, и земная любовь — представлялись мне теперь такими же далекими, как тучи, тянувшиеся в глубине пропастей у моих ног; душа моя казалась мне необъятной и чистой, как простертый надо мной небесный свод; воспоминания о земном доходили до моего сердца заглушенными и смягченными, как звук колокольчиков тех едва заметных стад, которые бродили там, далеко-далеко, на склоне другой горы. По маленькому недвижному озеру, совсем черному от неизмеримой своей глубины, скользила порою тень облака — словно отражение плаща какого-то пролетающего по небу воздушного гиганта. И я помню, что это необыкновенное и торжественное впечатление, производимое огромным, но совершенно беззвучным движением, наполняло меня радостью, смешанною со страхом. Словом, я чувствовал себя благодаря возвышающей красоте, которая меня окружала, в полном мире с самим собой и со всей Вселенной, и мне кажется, что в этом состоянии блаженства и полного забвения всякого земного зла я готов был даже признать не столь нелепыми утверждения газет, что человек по природе своей склонен к добру, как вдруг, повинуясь настойчивым требованиям всевластной материи, я подумал о том, чтобы утолить голод и отдохнуть после столь продолжительного восхождения.
Я достал из кармана большой кусок хлеба, кожаную чашку и флягу с особым эликсиром, который аптекари продавали в то время туристам, чтобы смешивать его при случае со снеговой водой.
Я спокойно разрезывал хлеб, когда легкий шорох заставил меня поднять глаза. Передо мной стояло маленькое существо в лохмотьях, черное, всклокоченное, впалые глаза которого, угрюмые и словно молящие, пожирали взглядом хлеб. И я услышал еле внятный хриплый шепот: «Пирог!» Я не мог удержаться от смеха, услышав наименование, которым он удостоил мой полубелый хлеб, и, отрезав добрый ломоть, протянул его ребенку. Он приблизился медленно, не отрывая глаз от предмета своего вожделения, потом вдруг, выхватив кусок, быстро попятился, как будто опасаясь, что предложение мое было неискренне или что я успел уже раскаяться в нем.
Но в ту же минуту он был сбит с ног другим маленьким дикарем, бог весть откуда появившимся и настолько похожим на первого, что их можно было принять за близнецов!.. И оба покатились на землю, оспаривая друг у друга драгоценную добычу, так как, очевидно, ни один из них не намерен был поделиться ею с братом. Первый в ожесточении схватил второго за волосы; тот вцепился ему зубами в ухо, но сейчас же отплюнул окровавленный краешек его, сопровождая плевок отборной простонародной бранью. Законный обладатель пирога попытался вонзить свои маленькие когти в глаза узурпатора, а тот в свою очередь напряг все силы, чтобы одной рукой придушить противника, в то время как другою старался засунуть себе в карман предмет распри. Но побежденный, распаляемый отчаянием, поднялся и сбил с ног победителя ударом головы в живот… Впрочем, к чему описывать эту отвратительную борьбу, которая длилась дольше, чем можно было ожидать от их детских сил! Пирог переходил из рук в руки и ежеминутно перемещался из кармана в карман, но, увы, вместе с тем он изменялся и в объеме, и когда измученные, задыхающиеся, окровавленные, они наконец остановились, не в силах продолжать борьбу, у них уже не оставалось, по правде говоря, и повода для битвы: кусок хлеба исчез, обратился в крошки, подобный песку, с которым и смешался.
Это зрелище омрачило для меня пейзаж, и тихая радость, которая наполняла мою душу перед тем, как я увидел этих маленьких людей, совершенно исчезла; и я долго еще оставался грустным, беспрестанно повторяя самому себе: «Есть, значит, чудная страна, где простой хлеб называется пирогом и представляется таким редким лакомством, что вызывает поистине братоубийственную войну».
XVI. Часы
Китайцы указывают время по глазам кошек.
Раз один миссионер, гуляя в предместье Пекина, заметил, что забыл свои часы, и спросил у встречного мальчуган который час.
Маленький сын Небесной империи пришел было в замешательство, потом, спохватившись, ответил: «Сейчас я вам скажу». Через несколько минут он вернулся с большим жирным котом на руках и, посмотрев, как передают на белки его глаз, решительно заявил: «Скоро полдень». Так оно и было.
Я же, когда склоняюсь к прекрасной Фелине, имя которой так подходит к ней, к Фелине, красе своего пола, гордости души моей, благоуханию моего ума — будет ли то ночь, будет ли то день при полном свете или в непроницаемом мраке, в глубине ее обворожительных глаз я всегда отчетливо вижу время — час, всегда один и тот же, огромный, торжественный, безграничный, как пространство, не раздробленный на минуты и секунды, недвижное время, не отмеченное ни на каких часах, но легкое, как вздох, быстрое, как взгляд.
И если б какой-нибудь докучный посетитель вздумал потревожить меня в то время, когда взгляд мой покоится на этом очаровательном циферблате, если бы какой-нибудь несносный и нетерпимый Дух, какой-нибудь Демон помехи сказал мне: «На что смотришь ты так внимательно? Что ищешь ты в глаза у этого существа? Не видишь ли ты по ним, который час, беспутный, праздный человек?» — я бы ответил без колебаний: «Да, я вижу час — это Вечность!»
Не правда ли, сударыня, вот заслуживающий одобрения мадригал — и столь же изысканный, как вы сами? Поистине, сочинение этого вычурного комплимента доставило мне такое наслаждение, что я ничего не попрошу у вас взамен.
XVII. Полмира в волосах твоих
О, позволь мне вдыхать, долго-долго вдыхать аромат волос твоих, погрузиться в них всем лицом, как погружается жаждущий в воду источника, и развевать их рукой, как душистый платок, чтобы наполнить воздух воспоминаниями.
Если бы ты могла знать все, что я вижу, все, что я чувствую, все, что я слышу в твоих волосах! Душа моя витает в ароматах, как души других людей — в звуках.
В волосах твоих целый мир сновидений: я вижу в них снасти и паруса, широкие моря, где дуют муссоны, уносящие меня к сладостным краям, там даль синее и глубже, там воздух напоен благоуханием плодов, листвы и человеческого тела.
В океане твоих волос мне видится гавань, оглашаемая меланхолическим пением; там суетится разноплеменная толпа мускулистых людей; сложными и тонкими очертаниями вырисовываются разнородные корабли на необъятном просторе неба, где надменно царит вечный зной.
В неге твоих волос вновь обретаю я истому долгих часов, проведенных мной на диване, в каюте прекрасного корабля, среди цветов и глиняных кувшинов с ледяною водой, под невнятное прибрежное колыханье.
В пламенном очаге твоих волос я вдыхаю запах табака, смешанного с опиумом* и сахаром; в ночи твоих волос мне сияет бесконечность тропической лазури; пушистые края твоих кос опьяняют меня смешанным запахом смолы, мускуса и кокоса. Дай мне медленно впиваться зубами в твои косы, тяжелые и черные. Когда я кусаю твои волосы, упругие и непокорные, мне кажется, что я пожираю воспоминания.
XVIII. Приглашение к путешествию
Есть роскошная страна, совсем сказочная страна, говорят мне, там мечтаю я побывать со старой своей подругой. Необыкновенная страна, погруженная в туманы нашего Севера, и которую поистине можно было бы назвать Востоком Запада и Китаем Европы, так свободно развернулась там пылкая, причудливая фантазия, с таким терпением и упорством разукрасила она ее своими изысканными и нежными цветами.
Настоящий сказочный уголок, где все красиво, богато, спокойно и безупречно, где роскошь, отражаясь в порядке, радостно любуется собою, где жизнь обильна и сладостно вдыхать ее, откуда изгнаны беспорядок, суета и случайность; где счастье сочеталось с тишиной, где даже яства поэтичны и возбуждающе пряны в то же время, где все так похоже на вас, мой ангел.
Ты изведала эту лихорадку, охватывающую нас среди сумрачных невзгод, эту тоску по неведомой родине, эту мучительную потребность узнать то, чего не знаешь? Есть край, похожий на тебя, где все прекрасно, богато, спокойно и безупречно — фантазия создала и разукрасила этот западный Китай, где так сладостно вдыхается жизнь, где счастье сочеталось с тишиной. Туда, туда — там жить и умереть! Да, туда нужно унестись, чтобы дышать, грезить и удлинять часы бесконечностью ощущений. Композитор написал «Приглашение к вальсу», кто напишет «Приглашение к путешествию», которое можно было бы посвятить любимой женщине, избранной сестре своей?
Да, в этой атмосфере хорошо было бы жить, там, где замедленное время богаче мыслями, где часы отбивают минуты блаженства с более глубокой и многозначительной торжественностью.
На блестящих карнизах или на мрачно-роскошных, тисненых золотом кожаных обоях неслышно живут картины, блаженные, безмятежные и глубокие, как души создавших их художников!.. Закатные лучи, пышно озаряющие столовую или залу, смягчаются роскошными занавесами или расписными стеклами высоких окон, разделенных оловянными переплетами на множество клеточек. Мебель там массивная, редкостная, причудливая, с замками и тайниками, как утонченная душа. Зеркала, бронза, ткани, ювелирные изделия и фарфор услаждают зрение немой и таинственной симфонией; от всех вещей, из всех углов, из скважин и из складок тканей исходит какой-то странный аромат, манящее напоминание о Суматре, как бы душа этих чертогов.
Вот истинно сказочная страна, говорю я тебе, где все богато, безукоризненно и блестяще, как чистая совесть, как великолепная кухонная посуда, как прекрасное ювелирное изделие, как изукрашенная самоцветными камнями драгоценность. Сюда стекаются сокровища всего мира, как в обитель неутомимого труженика, стяжавшего себе всемирную признательность. Удивительная страна, превосходящая во всем другие страны, подобно тому, как Искусство превосходит Природу, ибо Природа преображена в нем мечтой, исправлена, облагорожена, пересоздана ею.
Пусть ищут они, пусть неустанно ищут, пусть раздвигают пределы радостей своих, эти алхимики садоводства! Пусть назначают премии в шестьдесят, в сто тысяч флоринов за осуществление своих честолюбивых замыслов!.. Я же нашел свой черный тюльпан и свою голубую георгину!
О несравненный цветок, вновь обретенный тюльпан мой, аллегорическая георгина, туда, не правда ли, в эту чудесную страну, полную грез и покоя, должны унестись мы, там жить и цвести? Не была ль бы ты там, как рамой, окружена своим собственным подобием и не могла ли бы ты созерцать себя там, как говорят мистики, в своем соответствии?
Мечты! Вечные мечты! И чем душа требовательнее и нежнее, тем дальше уносят ее мечты от пределов возможного. Всякий человек носит в себе известную дозу природного опиума*, постоянно выделяемую и возобновляемую, и в промежутке между рождением и смертью много ли мы насчитаем часов, заполненных настоящим наслаждением и успешным сознательным делом? Будем ли мы жить там когда-нибудь, перенесемся ли когда-нибудь в эту картину, созданную моим воображением, в эту картину, похожую на тебя?
Эти сокровища, эта мебель, эта роскошь, этот порядок, эти ароматы, эти чудесные цветы — это ты. И эти большие реки и спокойные каналы — это ты, это ты. Огромные суда, которые движутся по ним, переполненные богатствами, и монотонное пение рабочих, доносящееся с них,— это мои думы, отдыхающие или трепещущие на груди твоей; ты тихо направляешь их к морю, которое есть Бесконечность, отражая глубины неба в прозрачности своей прекрасной души. И когда утомленные морским волнением, отягченные богатствами Востока суда возвращаются в родную гавань, это опять они, мои мысли; обогащенными возвращаются они из Бесконечности, возвращаются вновь к тебе.
XIX. Игрушка бедняков
Мне хочется навести вас на мысль об одном невинном развлечении. Ведь так мало забав, которые не были бы преступны. Если вам случится выйти из дому с намерением побродить по большой дороге, наполните свои карманы разными незатейливыми изделиями, по одному су каждое, каковы, например, плоский паяц, приводимый в движение одной-единственной ниточкой, кузнецы, ударяющие по наковальне, всадник с лошадью, хвост которой служит свистком, и, встречая где-нибудь возле трактиров или под деревьями бедных незнакомых вам детей, раздавайте им эти безделки. Вы увидите, как страшно широко раскроются их глаза. Сперва они не посмеют взять: они не поверят своему счастью. Потом руки их быстрым движением вцепятся в подарок и они пустятся бежать, словно кошки, удирающие от вас подальше, чтобы съесть полученный от вас кусок, ибо они научились остерегаться человека.
У дороги, за решеткой большого сада, в глубине которого сверкал болезно под солнечными лучами красивый замок, стоял прелестный ребенок со свежим личиком, одетый в кокетливое летнее платьице.
Роскошь, беспечное существование и привычное зрелище богатства делают этих детей такими хорошенькими, что кажется, будто они сделаны из совсем другого теста, чем дети людей среднего достатка или дети бедняков.
Возле него валялась на траве игрушка, такая же свежая на вид, как и ее обладатель, лакированная, позолоченная, разодетая в пурпур, разукрашенная перьями и блестками. Но ребенок не обращал никакого внимания на свою любимую игрушку, а смотрел вот на что.
По другую сторону решетки, на дороге, среди чертополоха и крапивы стоял другой ребенок, грязный, худенький, испачканный сажей, один из тех маленьких париев, в которых беспристрастный взгляд мог бы найти своеобразную красоту, если бы, подобно знатоку, угадывающему дивное произведено живописи под грубо наложенным лаком, он мысленно счистил с него отвратительные следы нищеты. Сквозь решетку, символически разделяющую эти два мира — большую дорогу и замок — маленький бедняк показывал маленькому богачу свою собственную игрушку, которую последний жадно рассматривал, как невиданную диковину. Игрушка же эта, которую маленький оборванец дергал, подбрасывал и тряс в решетчатой коробке, была живая крыса. Родители, в видах экономии, конечно, извлекли игрушку из самой жизни.
И оба ребенка братски смеялись, глядя друг на друга и сверкая зубами равной белизны.
XX. Дары фей
Это было большое собрание Фей для распределения даров между всеми новорожденными, появившимися на свет за последние сутки.
Все эти древние причудливые Сестры Судьбы, все эти своенравные Матери радости и скорби, были нимало не похожи друг на друга: одни имели вид мрачный и угрюмый, другие шаловливый и задорный; одни были юные, вечно юные; другие — старые, старые испокон веков. Все отцы, которые верят в Фей, явились сюда, каждый со своим новорожденным младенцем на руках.
Дарования, Способности, Удачи и непобедимые Препятствия были разложены пред судилищем, как призы на эстраде в день их раздачи. Самое замечательное здесь было то, что дары эти отнюдь не были наградой за какое-нибудь усилие, наоборот, милостью, даруемой тому, кто еще не жил, милостью, определяющей его судьбу и превращающейся для него в источник или несчастия или счастья.
Бедные Феи были очень озабочены, ибо толпа просителей была велика, а посредницы между людьми и Богом подчинены, как и мы, ужасным законам Времени и его бесчисленного потомства — Дней, Часов, Минут и Секунд.
Правду сказать, они совсем ошалели, как министры в приемный день или как служащие ломбарде, когда по случаю национального праздника производится обратная выдача невыкупленных вещей. Я полагаю даже, что они посматривали время от времени на стрелку часов с таким же нетерпением, как земные судьи, которые, заседая с самого утра, невольно начинают мечтать об обеде, о семье и о своих любезных туфлях. И если в этом неземном судилище замечалась некоторая доля торопливости и произвола, то не будем удивляться, что она проявляется и в человеческих судах. Мы сами оказались бы в таком случае несправедливыми судьями. И действительно, в тот день было наделано немало ошибок, которые можно было бы назвать странными, если бы не легкомыслие, а осмотрительность была отличительной и постоянной чертой Фей. Так, свойство словно магнитом притягивать к себе богатства было даровано единственному наследнику очень богатой семьи, который, не будучи одарен ни чувством милосердия, ни вожделением к самым очевидным благам жизни, должен был впоследствии чрезвычайно тяготиться своими миллионами.
Точно так же любовью к Прекрасному и поэтическим Дарованием был наделен сын одного совсем темного человека по профессии каменщика, который не мог ни помочь развиться талантам своего несчастного отпрыска, ни удовлетворить его потребностей.
Я совсем забыл еще сказать, что распределение благ в этих торжественных случаях не подлежит пересмотру и что ни от одного дара нельзя отказаться.
Все Феи уже поднялись, думая, что их тяжелый труд окончен, ибо у них не оставалось больше никаких щедрот, ни одного подарка, чтобы швырнуть этой людской мелюзге. Как вдруг какой-то малый, судя по всему мелкий торговец, поднялся и, ухватившись за туманно-радужное платье Феи, которая оказалась к нему ближе других, воскликнул: «Эй, сударыня! А нас-то вы и позабыли! Остался еще мой маленький! Не напрасно же я приходил!..» Фея имела основание смутиться, ибо не оставалось больше ничего. Однако она вовремя вспомнила об одном законе, хотя и редко применяемом, но все же хорошо известном в сверхъестественном мире, населенном этими бесплотными божествами, друзьями человека, столь часто вынужденными приспособляться к его страстям, в мире Фей, Гномов, Саламандр, Сильфид, Сильфов, Никсов, Водяных и Водяниц. Я говорю о законе, который дает феям право в случаях, подобных настоящему, то есть в случай истощения даров, сделать еще один дополнительный и исключительный подарок, если только у них хватит воображения, чтобы тут же изобрести его.
И вот добрая Фея ответила с достоинством, подобающим ее сану: «Твоему сыну я дарую… дарую… способность нравиться!»
«Как это, нравиться? Нравиться?.. Почему это нравиться?» — заупрямился лавочник, который, без сомнения, был одним из плоских резонеров, неспособных подняться до логики Абсурда.
«А вот потому! — гневно ответила Фея, повертываясь к нему спиной и, присоединившись к веренице своих подруг, промолвила: — Что вы скажете об этом заносчивом французике, который хочет все понять и который, получив для своего сына лучший из даров, осмеливается еще приставать с вопросами и оспаривать неоспоримое?»
XXI. Искушение или Эрос, Плутос и Слава
Два великолепных Дьявола и одна Дьяволица, не менее замечательная, поднялись прошлою ночью по таинственной лестнице, с помощью которой Ад нападает на обессиленного сном человека и вступает с ним в тайные сношения. И торжественно расположились они предо мной, точно на эстраде. Исходившее от них сернистое сияние выделяло их на непроницаемом фоне ночи. Вид у них был такой гордый и властный, что я сначала принял их всех трех за настоящих богов.
У первого Дьявола было лицо гермафродита и в линиях его тела замечалась изнеженность древних вакхов. Его прекрасные томные глаза неопределенно темного оттенка напоминали фиалки, еще отягченные слезами бури, а полуоткрытый губы — раскаленные курильницы, из которых исходило благовоние; и при каждом его вздохе пахнущие мускусом насекомые зажигались на лету от его жаркого дыхания.
Вокруг его пурпурной туники обвивался пояс в виде пояса ласкающийся змеи, которая, приподняв голову, томно заглядывала ему в лицо своими раскаленными глазами. На этом живом поясе висели, чередуясь со склянками, наполненными зловещими жидкостями, блестящие ножи и хирургические инструменты. В правой руке он держал сосуд со сверкающей красной жидкостью и этикеткой, на которой стояли следующие странный слова: «Пейте, это моя кровь, превосходное укрепляющее». В левой же руке он держал скрипку, в звуках которой, конечно, выражал свои радости и страдания и распространял заразу своего безумия в ночи шабаша.
На его тонких щиколотках висели звенья разорванной золотой цепи, заметно стеснявшие его, так что по временам он опускал глаза в землю, причем тщеславно любовался ногтями своих ног, блестящими и отделанными, как гладко отшлифованные каменья.
Он взглянул на меня своими неутешно скорбными, коварно пьянящими глазами и сказал мне певучим голосом: «Если ты хочешь, если хочешь, я сделаю тебя владыкою душ: ты будешь властвовать над живой материей, как скульптор над глиною, и даже более. И ты познаешь без конца возобновляющееся наслаждение — освобождаться от самого себя, чтобы забываться в других и привлекать к себе души, чтобы сливать их со своею».
Но я ответил ему: «Покорно благодарю! Что я стану делать с этим ворохом существ, которые, конечно, стоят не больше, чем я сам. Хоть мне и стыдновато вспоминать свое прошлое, но я ничего не хочу забыть; и если бы я даже не знал тебя, старое чудовище, твои таинственные ножи, твои подозрительные склянки, цепи, которыми опутаны твои ноги, все это достаточно ясно говорит о неудобствах твоей дружбы. Оставь свои дары при себе».
У второго Дьявола не было ни этого одновременно трагического и улыбающегося вида, ни коварных, изящных манер, ни тонкой и благоуханной красоты. Это был грузный, толстолицый, безглазый мужчина с тяжелым, отвислым брюхом и позолоченной, разрисованной кожей, как бы татуированной множеством движущихся фигурок — изображение многообразия мирового страдания. Тут были маленькие сухопарые человечки, добровольно повесившиеся на крюке; тут были тощие маленькие гномы с глазами, еще красноречивее молившими о подаянии, чем их дрожащие руки; и старые матери с недоносками, повисшими на их иссохших сосцах, и еще многое другое.
Толстый Дьявол ударял кулаком в свой огромный живот и оттуда раздавался протяжный и дребезжащий металлический звук, заканчивающийся как бы смутным стоном бесчисленных человеческих голосов. И он смеялся, бесстыдно показывая свои испорченные зубы, тем громким идиотским смехом, каким смеются иные люди во всех странах света после слишком сытного обеда.
И он сказал мне: «Я могу дать тебе то, чем все достигается, что стоит всего, чем все заменяется». И он хлопнул по своему чудовищному животу, и звучное эхо оттуда как бы пояснило его грубые слова. Я отвернулся с отвращением и ответил: «Мне не надо наслаждений, купленных чужим страданием; я не хочу богатства, отягченного теми бедствиями, которые изображены, как на бумажных обоях, на твоей коже».
Что касается Дьяволицы, то я солгал бы, если бы не признался, что на первый взгляд нашел в ней своеобразную прелесть. Я всего лучше определю это очарование, если сравню его с закатной прелестью очень красивых женщин, которые, достигнув известного возраста, уже не стареют более, и чья красота сохраняет пленительное обаяние развалин. Вид у нее был одновременно повелительный и вялый и в глазах ее, хотя и утомленных, была приковывающая сила. Но что более всего поразило меня, так это тайна ее голоса, в котором я находил отзвуки самых сладостных контральто и в то же время некоторую хрипоту глотки, беспрерывно промываемой водкой.
«Хочешь познать мое могущество? — сказала мнимая богиня своим чарующим и парадоксальными голосом. — Слушай!»
И она поднесла ко рту огромную трубу, разукрашенную, наподобие сельской флейты, названиями газет всего мира и прокричала в нее мое имя, прокатившееся в пространстве с грохотом тысячи громов и возвращенное мне эхом отдаленной планеты.
«Черт возьми,— промолвил я, полупокоренный,— вот это-таки заманчиво!» Но внимательнее вглядевшись в обольстительную Дьяволицу, я смутно вспомнил, что видел, как она чокалась с несколькими распутниками из моих знакомых, и хриплый звук от медного инструмента отдался в моих ушах воспоминанием о какой-то наемной трубе. И я ответил со всем презрением, на какое только способен: «Убирайся! Я создан не для того, чтобы жениться на любовнице людей, которых не хочу называть по имени».
Конечно, я имел право гордиться столь мужественным отречением. Но, к несчастию, я проснулся и все мои силы покинули меня. «Поистине,— сказал я себе,— нужно было крепко уснуть, чтобы проявить такую щепетильность. О! если бы они могли вернуться наяву, я не был бы так разборчив».
И я стал громко призывать их, умоляя простить меня, предлагая им позорить меня сколько их душе угодно, лишь бы заслужить их расположение, но, очевидно, я сильно оскорбил их, ибо они никогда больше не возвращались.
XXII. Сумерки
День угасает. Великое успокоение нисходит в усталые умы, измученные дневным трудом; и мысли окрашиваются нужными неопределенными оттенками сумерек.
А с горы сквозь прозрачный вечерний туман доносится до моего балкона страшный рев, слагающийся из множества резких криков, преображаемых дальностью расстояния в какую-то мрачную гармонию, подобную шуму морского прибоя или пробуждающейся бури.
Кто эти несчастные, не находящие успокоения в вечерних сумерках, подобно совам встречающие наступление ночи, как призыв к шабашу? Этот зловещий вой доносится сюда из мрачной обители, которая ютится там на горе; и каждый вечер с папиросой в зубах, созерцая обширную равнину, объятую тишиной и усеянную домами, где каждое окошко словно говорит: «Здесь мир; здесь семейные радости», я могу, когда ветер дует со стороны горы, убаюкивать свою встревоженную мысль этим подобием адских созвучий.
Сумерки возбуждают сумасшедших. Мне вспоминаются два моих приятеля, которые с наступлением сумерек впадали в какое-то болезненное состояние. Один из них пренебрегал тогда всеми требованиями дружбы и вежливости и напускался, как дикарь, на первого встречного. Я был однажды свидетелем того, как он бросил в голову метрдотелю превосходного цыпленка, в котором усмотрел какой-то оскорбительный для себя символ. Вечер, предтеча сокровеннейших наслаждений, отравлял для него самые соблазнительные вещи.
Другой, человек с уязвленным честолюбием, становился к вечеру все более мрачным, раздражительным, задорным. Мягкий и общительный в течение дня, вечером он был невыносим, и не только на других, но и на него самого обрушивалось бешенство этой сумеречной мании.
Первый умер сумасшедшим, не узнавая ни своей жены, ни ребенка. Второй живет в тревоге вечного недомогания: и будь он осыпан всеми почестями, какие только могут дать республики и монархи, вечерние сумерки всегда будут разжигать в его душе жажду каких-то иных, несуществующих отличий. Ночь, наполнявшая мраком их разум, мою душу озаряет светом, и хотя нередко приходится видеть, что одна и та же причина порождает совершенно противоположные явления, все-таки это постоянно вызывает во мне недоумение и тревогу.
О ночь! Освежающий сумрак! Вы знаменуете для меня наступление внутреннего праздника, вы для меня освобождение от щемящей тоски. Мерцание звезд, вспыхивающие огни фонарей, вы кажетесь мне и в пустынности равнин, и в каменных лабиринтах столицы каким-то фейерверком божественной Свободы!
Сумерки! Сколько в вас мягкости и неги. Розовые отблески еще догорают на горизонте, словно агония дня, теснимого побеждающей ночью, огни канделябров выделяются мутно-красными пятнами на последнем сиянии заката, тяжелые занавесы подымаются невидимой рукой из глубины Востока — все это как бы служит отражением тех сложных чувств, которые борются в сердце человека в торжественные часы его жизни.
Это напоминает еще затейливое платье танцовщицы, где сквозь прозрачный темный газ просвечивает затуманенный блеск яркой цветной юбочки, подобно тому как сквозь мрак настоящего просвечивает очаровательное прошедшее, а трепетные золотые и серебряные звездочки, которыми она усеяна, олицетворяют огни фантазии, зажигающиеся только в глубоком трауре ночи.
XXIII. Одиночество
Один человеколюбивый газетчик уверяет меня, что одиночество вредно для человека, и в подтверждение, как все неверующие, приводит слова Отцов церкви.
. Но возможно также, что одиночество опасно лишь для души праздной и мятежной, населяющей его своими собственными страстями и химерами.
Несомненно, что какой-нибудь пустомеля, для которого нет высшего удовольствия, как болтать с высоты кафедры или трибуны, попав на остров Робинзона, сильно рисковал бы впасть в буйное помешательство. Я и не требую от моего газетчика доблестных качеств Крузо, но пусть и он не произносит приговора над теми, кто влюблен в одиночество и тайну.
Среди нашей болтливой породы есть экземпляры, которые, пожалуй, без особого возмущения пошли бы даже на смертную казнь, лишь бы им позволено было при этом произнести с высоты эшафота пышную речь, которую не угрожали бы заглушить барабаны Сантера.
Мне не жаль их, ибо я думаю, что их ораторские излияния доставляют им такое же наслаждение, какое другие извлекают из тишины и сосредоточенности, но я презираю их.
А главное, я хочу, чтобы этот проклятый газетчик предоставил мне наслаждаться по-моему. «Значит,— говорит он, гнусавя, тоном завзятого проповедника,— вы никогда не испытываете потребности делиться своими радостями?» Не угодно ли, какой хитрый завистник! Он знает, что я презираю его радости, и старается подкопаться под мои, противный интриган!
«Какое это несчастье — невозможность побыть в одиночестве!..» — говорит где-то Лабрюйер как бы для того, чтобы пристыдить всех тех, которые бегут искать самозабвения в толпе, очевидно, из страха оказаться невыносимыми для самих себя. «Почти все наши несчастья происходят от того, что мы не смогли остаться в своей комнате»,— говорит другой мудрец, кажется, Паскаль, призывая в келью раздумья всех этих безумцев, ищущих счастья в беготне и в том распутстве души, которое я назвал бы братственным, если бы вздумал пользоваться прекрасными словечками своего века.
XXIV. Планы
Он говорит самому себе, гуляя по большому пустынному парку: «Как прекрасна была бы она в придворном платье, затейливом и пышном, спускаясь тихим вечером по мраморным ступеням дворца, окруженного лужайками и бассейнами! Ибо ведь она так похожа на принцессу».
Позднее, проходя по улице, он остановился перед магазином с гравюрами и, увидя в папке эстамп, изображающий тропический пейзаж, подумал: «Нет, не во дворце хотел бы я владеть ее дорогой жизнью. Мы не были бы там у себя. Уже одно то, что на его испещренных золотом стенах не нашлось бы места, где достаточно четко вырисовывался бы ее образ, в этих парадных галереях нет уголка для интимного общения. Поистине, вот где нужно было бы поселиться, чтобы взлелеять мечту моей жизни».
И, всматриваясь в подробности гравюры, он продолжал мысленно: «На берегу моря красивая деревянная хижина, окруженная всеми этими странными деревьями с глянцевитой листвой, названия которых я позабыл… В воздухе опьяняющее, неизъяснимое благоухание… В хижине сильный аромат роз и мускуса… Подальше, за нашим маленьким владением, верхушки мачт, покачиваемых движением волн… Вокруг нас, за пределами комнаты, залитой смягченным шторами розовым светом, убранной свежими циновками и одурманивающими цветами, с немногочисленной мебелью в стиле португальского рококо из тяжелого и темного дерева (где она покоилась бы так тихо, обмахиваясь опахалом и куря табак, слегка пропитанный опиумом*), за пределами нашего жилища — щебетанье птиц, опьяненных светом, и болтовня маленьких негритянок… А ночью, как аккомпанемент к моим грезам, жалобное пение музыкальных деревьев, меланхолических филао. О да, вот та обстановка, которой я искал. Зачем мне дворец?»
Но, идя дальше по широкой улице, он заметил чистенькую гостиницу; из окна, украшенного веселенькими пестрыми ситцевыми занавесками, выглядывали два смеющихся лица. И сейчас же ему пришло в голову: «Что за отчаянная бродяга моя мысль, если ей нужно так далеко искать того, что находится здесь, около меня. Радости и счастье ждут меня в первой попавшейся гостинице, случайной гостинице, обещающей столько наслаждений. Пылающий очаг, яркие фаянсы, сносный ужин, терпкое вино и широчайшая кровать с грубоватым, но свежим бельем. Чего же лучше?»
А вернувшись к себе в час, когда жужжанье внешней жизни не заглушат более советов Мудрости, он невольно подумал: «В сегодняшних грезах я обладал тремя жилищами и был равно счастлив во всех трех. К чему утруждать свое тело пересменою мест, если душа моя странствует с такой легкостью? И зачем осуществлять планы, если планы уже сами по себе доставляют нам столько наслажденья?
XXV. Прекрасная Доротея
Солнце обдает город тяжким зноем отвесных лучей; песок ослепителен, и все море искрится и блестит. Оцепеневший мир лениво предается послеполуденному сну, но это сон, подобный сладостному умиранию, в котором спящий сквозь дрему вкушает блаженство изнеможения.
Между тем Доротея, сильная и гордая, как солнце, победно бодрствуя в этот час под необъятною лазурью, проходит по пустынной улице, образуя на фоне света яркое черное пятно.
Она подвигается, мягко покачивая свой тонкий-тонкий стан на широких бедрах. Узкое шелковое платье светлой розовой окраски резко выделяется на сумраке ее кожи и четко обрисовывает ее стройную фигуру, изгиб спины и округлость грудей.
Красный зонтик, просеивая солнечные лучи, румянит ее темное лицо кровавыми отсветами.
Тяжелая громада ее иссиня-черных волос оттягивает назад ее изящную голову и придает ей какой-то ленивый и победоносный вид. В ее маленьких ушах чуть слышно лепечут тяжелые подвески.
Порою легкое дуновенье с моря приподнимает край ее широкой юбки и открывает великолепную лоснистую ногу, а ее ступня, подобная ступням тех мраморных богинь, которых Европа хоронит в своих музеях, ясно отпечатывается на тонком песке. Ведь Доротея такая завзятая кокетка, что желание заставить любоваться собою берет в ней верх над гордостью вольноотпущенницы, и она ходит босая, хотя и свободна.
И так плавно выступает она, полная радости жизни, улыбаясь широкой улыбкой, словно видя где-то далеко перед собою, в пространстве, зеркало, отражающее ее движения и ее красоту.
Какая же сила заставила ленивую Доротею, прекрасную и холодную, как бронза, выйти в этот час, когда даже собаки воют от укусов солнца?
Зачем покинула она свою кокетливую хижинку, превращенную незатейливым убранством из цветов и циновок в настоящий будуар; там испытывает она столько удовольствий, расчесывая свои волосы, куря табак, заставляя обмахивать себя или смотрясь в зеркала своих больших опахал из перьев, в то время как море бьет о берег в ста шагах от нее, звучно и мерно вторя ее неясным грезам, а из глубины двора доносятся возбуждающие ароматы от чугунного котелка, в котором варится рагу из крабов с рисом и шафраном.
Быть может, у нее назначено свиданье с каким-нибудь молодым офицером, который где-то на далеких берегах слышал от своих товарищей о знаменитой Доротее. В простоте души она, конечно, попросит его описать ей бал в Опере и будет расспрашивать, можно ли являться туда босой, как на воскресную пляску, где даже старые кафрские женщины пьянеют от неистового веселья, и еще, правда ли, что прекрасные дамы Парижа все красивее ее?
Доротею все балуют, все любуются ею, и она была бы вполне счастлива, если бы не должна была откладывать пиастр за пиастром, чтобы выкупить свою младшую одиннадцатилетнюю сестренку, которая стала уже взрослой и такой красавицей.
И это, конечно, удастся доброй Доротее: ведь хозяин ребенка так скуп, слишком скуп, чтобы ценить какую-либо красоту, кроме красоты червонцев!
XXVI. Глаза бедняков
Вы хотите знать, почему я ненавижу вас сегодня. Вам будет, конечно, труднее понять это, чем мне объяснить это вам, ибо вы представляете собою, на мой взгляд, лучший образец женской непроницаемости, какой только можно встретить.
Мы провели вместе целый день, долгий день, показавшийся мне таким коротким. Мы поклялись друг другу, что все мысли у нас будут общими и две души наши будут отныне, как одна душа; мечта, не представляющая собою, в сущности, ничего особенного, кроме разве того, что, лелеемая всеми, она никем еще не была осуществлена. Вечером, слегка утомленная, вы пожелали посидеть перед новым кафе, на углу нового бульвара, еще заваленного мусором, но уже величаво развёртывающего свои будущие великолепия. Кафе сверкало. Даже газ словно расточал весь пыл первого публичного выступления и освещал что есть мочи ослепительно белые стены, блестящие площади зеркал, золото багет и карнизов, пажей с надутыми щеками, влекомых сворою собак, и улыбающихся дам с соколом на руке, нимф и богинь, несущих на голове плоды, пирожные и дичь, Гебу и Ганимеда, любезно протягивающих гостям маленькую амфору с сиропом или пестрый обелиск из разноцветного мороженого, словом, все образы истории и мифологии, призванные сюда для служения обжорству.
Прямо против нас на мостовой стоял мужчина лет сорок с усталым лицом и седеющей бородой: за одну его руку цеплялся мальчуган, на другой он держал маленькое существо, еще слишком слабое, чтобы ходить. Он исполнял обязанности няньки и вывел теперь своих ребят подышать вечерним воздухом. Все трое были в лохмотьях. Эти три лица были необычайно серьезны и все шесть глаз рассматривали новое кафе с одинаковым восхищением, различным лишь в оттенках, соответственно возрасту.
Глаза отца говорили: 'Как красиво! Ах, как красиво! Словно все золото бедного люда собралось на этих стенах». Глаза мальчика говорили: «Как красиво! Ах, как красиво! Но ведь в этот дом могут входить только люди, не такие, как мы». А глаза малютки были слишком ослеплены, чтобы выражать что-либо, кроме глубокой бессмысленной радости.
Поэты говорят, что радость делает душу добрее, смягчает сердце. И они оказались правы по отношению ко мне в тот вечер. Я не только был растроган этой семьей глаз, но мне стало даже немного совестно глядеть на наши стаканы и графины, далеко превышающие размеры нашей жажды. Я искал взглядом ваш взгляд, любовь моя, чтобы прочесть в нем мою мысль; я погрузился в ваши глаза, столь прекрасные и столь причудливо нежные, в ваши зеленые глаза, обитаемые Своенравием, зачарованные Луною, как вдруг вы сказали мне: «Эти люди невыносимы со своими широко раскрытыми, как ворота, глазами! Не можете ли вы попросить хозяина кафе удалить их отсюда?»
Вот как трудно понимать друг друга, мой милый ангел, и как непередаваема мысль, даже между людьми, которые связаны любовью.
XXVII. Геройская смерть
Фанчиуле был превосходный шут и почти что друг Принца. Но для людей, обреченных своим положением на роль комиков, все серьезное имеет какую-то роковую притягательную силу, и, как ни странно представить себе, чтобы понятия отечества и свободы могли столь деспотически завладеть мозгом шута, но в один прекрасный день Фанчиуле принял участие в заговоре нескольких недовольных дворян!..
Повсюду найдутся благонамеренные люди, чтобы донести властям на этих желчно настроенных субъектов, стремящихся низвергнуть владык и перестроить общество, не спрашивая на то его согласия. Заговорщики и Фанчиуле были арестованы и приговорены к смерти.
Я готов поверить, что Принц был почти огорчен, увидев в числе непокорных имя своего любимого комика. Принц этот был не хуже и не лучше других принцев, но крайняя впечатлительность неоднократно делала его более жестоким и деспотичным, чем бывают обыкновенно люди его ранга. Страстно влюбленный в искусство и к тому же тонкий знаток его, он был поистине ненасытен в наслаждениях. Довольно равнодушный к людям и к вопросами нравственности, сам настоящий артист, он знал одного только опасного врага — Скуку, и те ухищрения, при посредстве которых он пытался избегнуть или одолеть этого тирана человечества, конечно, навлекли бы на него со стороны сурового историка эпитет «чудовища», если бы только в его владениях разрешалось писать о чем-либо, кроме того, что предназначено доставлять удовольствие или вызывать удивление,— одну из наиболее утонченных форм удовольствия. Великое несчастье этого Принца заключалось в том, что у него никогда не было достаточно обширной арены для его дарований. Много есть таких молодых Неронов, которые задыхаются в чересчур узких рамках и самое имя и благие стремления которых навсегда останутся сокрытыми от грядущих веков. Непредусмотрительное Провидение даровало этому Принцу способности гораздо более значительные, чем его владения.
Вдруг разнесся слух, что владыка хочет помиловать всех заговорщиков; слух этот возник в связи с тем, что при дворе был объявлен парадный спектакль, в котором Фанчиуле выступал в одной из главных и лучших своих ролей и на котором даже, как говорили, должны были присутствовать все осужденные дворяне — верный признак великодушных намерений оскорбленного Принца, прибавляли легкомысленные люди.
От человека и по природе, и по направлению воли столь эксцентричного можно было ожидать всего, даже добродетели, даже милосердия, в особенности, если он мог почерпнуть в этом для себя какие-либо нежданные удовольствия. Но для тех, кто, подобно мне, имел возможность проникнуть в глубины этой своеобразной и больной души, казалось гораздо более вероятным, что Принц хотел испытать сценические таланты человека, осужденного на смерть. Он хотел воспользоваться случаем, чтобы сделать важное психологическое наблюдение и проверить, насколько обыкновенные способности артиста могут измениться или даже принять другой характер под влиянием необыкновенного положения, в котором он находится; было ли при этом в его душе и сколько-нибудь определенное намерение проявить милосердие? Это вопрос, которому никогда не удастся разъясниться.
Наконец знаменательный день наступил; маленький двор развернулся во всей своей пышности, и трудно представить себе, не видав все то великолепие, которым может блеснуть привилегированный класс маленького и небогатого государств, когда речь идет о настоящем торжестве. А это было вдвойне настоящее торжество — и по волшебству роскоши, и по тому волнующему души, таинственному интересу, который был с ним связан.
Фанчиуле особенно отличался в немых или немногословных ролях, которые часто бывают главными в драмах-феериях, символически изображающих таинства жизни. Он вышел на сцену легкой поступью и с полной непринужденностью, что еще больше убедило благородное общество в милосердии и доброте Принца.
Когда о каком-либо актере говорят: «Вот хороший актер», то при этом имеется в виду, что в действующем лице, которое он изображает, все же угадывается сам актер, то есть его искусство, усилие, воля. И если бы актер достиг по отношению к изображаемому им лицу того, чем были бы по отношению к общей неуловимой идее красоты лучшие античные статуи, но статуи чудесно одухотворенные, живые, движущиеся, зрячие, то это, конечно, был бы случай исключительный и совершенно непредвиденный. В этот вечер Фанчиуле был столь совершенным воплощением идеального, что невозможно было представить его себе иначе, как живым, возможным, вполне реальным. Этот шут ходил, двигался, смеялся, плакал, корчился, с неугасающим сиянием вокруг чела — сиянием, невидимым для всех, но видимым для меня, и в котором странно сочетались лучи Искусства и слава Мученичества. Озаренный какой-то особенной благодатью, Фанчиуле вплетал божественное и сверхъестественное в самые чудовищные шутовские выходки. Перо мое дрожит и глаза заволакиваются слезами вновь переживаемого волнения в то время, как я пытаюсь описать вам этот незабвенный вечер. Фанчиуле решительно, неопровержимо убеждал меня в том, что опьянение Искусством более чем какое бы то ни было другое, способно скрыть от глаз весь ужас бездны, что гений может играть комедию на краю могилы с радостью, мешающей ему видеть могилу, ибо в эту минуту он блуждает в раю, исключающем всякую мысль о могиле и разру шении.
Вся эта публика, как ни была она пресыщена и легкомысленна, скоро ощутила на себе всемогущую власть художника. Никто не думал более ни о смерти, ни о печали, ни о мучениях. Каждый, забыв тревоги, всецело отдался тому двойному наслаждению, какое доставляет созерцание живого произведения искусства. Взрывы радости и восхищения неоднократно потрясали своды здания с силою продолжительного громового раската. Сам Принц, опьяненный, присоединил свои аплодисменты к рукоплесканиям двора. Между тем от наблюдательного глаза не ускользнуло бы, что к опьянению Принца примешивалось еще нечто иное. Чувствовал ли он себя превзойденным в своем деспотическом могуществе? Униженным в своем искусстве повергать в ужас сердца и в оцепенение умы? Обманутым в своих надеждах и одураченным в своих предположениях? Такие догадки, ничем, в сущности, не оправдываемые, но и не вполне опровержимые, приходили мне в голову в то время, как я следил за всегда бледным лицом Принца, которое теперь покрывалось еще большей бледностью, подобно тому, как снег покрывается снегом. Губы его сжимались все плотнее и глаза горели внутренним огнем, похожим на огонь ревности или затаенной злобы даже тогда, когда он демонстративно аплодировал своему старому другу, этому странному шуту, который так хорошо шутил над смертью. Был момент, когда я видел, как его высочество наклонился к маленькому пажу, стоявшему за ним, и шепнул ему что-то на ухо. Шаловливое лицо хорошенького мальчика озарилось улыбкой и он тотчас же покинул ложу Принца, как бы спеша исполнить неотложное поручение.
Несколько минут спустя резкий длительный свист прервал Фанчиуле в один из лучших моментов его игры и пронзил одновременно слух и сердца присутствующих. А с того места залы, откуда раздался этот столь неожиданный знак неодобрения, едва сдерживая смех, опрометью бросился в коридор ребенок.
Фанчиуле, очнувшийся, пробужденный от своей грезы, сначала закрыл глаза, но почти тотчас неестественно широко открыл их, затем раскрыл рот, словно для того, чтобы судорожно вздохнуть, слегка пошатнулся назад, потом вперед — и упал мертвый на подмостки. Этот острый как меч свисток обманул ли на самом деле расчеты палача? Предугадывал ли сам Принц убийственную силу своей хитрости? Позволительно усомниться в этом. Пожалел ли он о своем милом неподражаемом Фанчиуле? Было бы приятно и вполне законно этому верить. Преступные дворяне в последний раз насладились театральным зрелищем. В ту же ночь они были вычеркнуты из жизни.
С тех пор много актеров, по достоинству оцененных другими странами, приезжали играть пред двором, но ни один из них не мог сравниться дарованием с чудесным талантом Фанчиуле, ни возвыситься до той же милости.
XXVIII. Фальшивая монета
Когда мы вышли из казенной табачной лавки, мой приятель произвел тщательную сортировку своих денег: в левый карман жилета он положил небольшие золотые монеты, в правый — мелкое серебро, в левый карман брюк множество тяжелых су и наконец в правый — одну двухфранковую монету, которую он особенно тщательно осмотрел. «Какое странное и мелочное распределение»,— подумал я.
Мы встретили нищего, который, дрожа, протянул нам свою фуражку. Я не знаю ничего более волнующего, чем немое красноречие этих молящих глаз, которые для впечатлительного человека, умеющего читать в них, выражают одновременно столько смиренья и столько укоризны. Он узрит в них нечто, приближающееся по глубине к тому сложному чувству, которое отражается в слезящихся глазах собаки, когда ее бьют.
Лепта моего приятеля оказалась гораздо более значительной, чем моя, и я сказал ему: «Вы правы, после удовольствия самому испытать удивление нет ничего приятнее, как поразить неожиданностью другого». «Это была фальшивая монета»,— спокойно ответил он мне, как бы оправдываясь в своей щедрости.
Но в моем злополучном уме, вечно занятом исканием вчерашнего дня (какую утомительную способность даровала мне природа!), сейчас же явилась мысль, что подобное поведение моего приятеля может быть оправдано лишь желаньем создать событие в жизни этого бедняка, быть может, даже произвести опыт: какого рода последствия, пагубные или иные, может породить фальшивая монета в руках нищего? Не может ли она превратиться для него в настоящие деньги? Или же она доведет его до тюрьмы? Трактирщик или булочник, например, быть может, донесет на него, как на фальшивомонетчика или как на распространителя фальшивых монет. Между тем как в руках какого-нибудь мелкого спекулянта фальшивая монета могла бы стать источником целого богатства на несколько дней. Таким-то образом фантазия моя продолжала работать и дальше, наделяя крыльями ум моего приятеля и делая всевозможные выводы из всевозможных гипотез.
Но вдруг он прервал мои мечтания, повторив мои собственные слова: «Да, вы правы: нет большего удовольствия, как поразить человека, дав ему больше, чем он ожидал».
Я заглянул ему прямо в глаза и ужаснулся, увидев, что они блестели неподдельным чистосердечием. Мне стало ясно, что он хотел одновременно сделать доброе дело и выгодную аферу, сохранить сорок су и задобрить Господа Бога; попасть в рай без лишних издержек; иными словами, заполучить даром патент на наименование милосердного человека. Я почти готов был простить ему стремление к преступному наслаждению, в котором только что заподозрил его, я усмотрел бы нечто любопытное, своеобразное в том, что он способен ради забавы морочить бедняков, но я никогда не прощу ему бессмысленности его расчетов. Никогда не простительно человеку быть злым, но есть нечто достойное в сознании своей злости. Самый же неисправимый из пороков — это склонность делать зло по глупости.
XXIX. Великодушный игрок
Вчера на бульваре, в толпе, я ощутил мимолетное прикосновение таинственного Существа, с которым я всегда искал встречи и облик которого тотчас же узнал, хотя никогда раньше его не видел. Без сомнения, и Он желал того же по отношению ко мне, ибо, проходя мимо, многозначительно подмигнул мне, и я тотчас же последовал этому призыву. Я шел, ни на шаг не отставая от него, и скоро спустился вслед за ним в ярко освещенное подземелье, блиставшее такой роскошью, о которой ни один из дворцов Парижа не мог бы дать и самого отдаленного представления. Мне показалось странным, что, проходя так часто мимо этого волшебного убежища, я мог не заметить входа в него. Там царила сладчайшая и в то же время напоенная дурманом атмосфера, заставлявшая почти мгновенно отрешаться от томительного бреда жизни; и душа впивала там неизъяснимое блаженство, подобное тому, какое должны были испытывать путники, вкусившие плодов лотоса, когда, высадившись на волшебный остров, озаренный сиянием немеркнущего дня, они почувствовали, как под усыпляющий плеск звонкоструйных водопадов рождается в них желание никогда не возвращаться более к своим пенатам, к своим женам и детям, никогда не носиться более по высоким хребтам морских валов.
Там окружали меня странные лица, мужские и женские, отмеченные печатью роковой красоты, и мне казалось, что я уже видел их когда-то, но когда именно и в как их краях — этого я никак не мог припомнить; и лица эти внушали мне скорее братскую приязнь, чем то опасливое чувство, какое возникает обыкновенно при виде незнакомых людей. Если бы я попытался определить как-нибудь то особенное выражение, которое светилось в их взорах, я сказал бы, что никогда не видел глаз, горящих таким яростным отвращением к скуке и таким неугасимым желанием жить и ощущать жизнь.
Не успели мы с нашим хозяином сесть, как были уже добрыми старыми друзьями. Мы ели, мы пили без меры всевозможные замечательные вина и, что не менее замечательно, по прошествии нескольких часов мне казалось, что я не более пьян, чем он. Между тем мы прерывали время от времени обильные возлияния наши, чтобы предаться игре, этому сверхчеловеческому удовольствию, и нужно сказать, что я поставил на карту и проиграл свою душу с истинно геройской беспечностью и легкомыслием. Душа — вещь столь малоосязаемая, столь часто бесполезная, а порою и обременительная, что утрата ее не вызвала во мне и того легкого беспокойства, какое я испытал бы, обронив на прогулке свою визитную карточку.
Мы долго курили какие-то особенные сигары, которые несравненным вкусом и ароматом своим пробуждали в душе тоску по неведомым странам и неизведанным радостям; и упоенный всеми этими наслаждениями, я схватил полный до краев кубок и в порыве фамильярности, которая, по-видимому, нимало не шокировала его, дерзко воскликнул: «За ваше бессмертное здоровье, старый Козел!» Мы беседовали также о Вселенной, о ее сотворении и грядущем разрушении, о великой идее нашего века — т. е. о прогрессе и способности к совершенствованию, вообще обо всех формах человеческого самообольщения. На эту тему его светлость так и сыпал непринужденными, меткими остротами и притом поражал таким изяществом в оборотах речи, и, произнося самые забавные вещи, сохранял такое невозмутимое спокойствие, каких я не встречал ни у одного из наиболее прославленных человечеством мастеров слова. Он разъяснил мне нелепость разных философских систем, которые властвовали до сих пор над человеческим разумом, и соблаговолил доверить мне несколько основных истин, сущность и преимущества которых я однако не счел бы себя в праве открыть кому бы то ни было. Он был отнюдь не склонен жаловаться на ту дурную славу, какою его особа пользуется во всех частях света, уверял меня, что и сам он как нельзя более заинтересован в разрушении суеверия и признался, что лишь один-единственный раз испугался за свое могущество, а именно в тот день, когда некий проповедник, более хитроумный, чем его собратья, возгласил с церковной кафедры: «Любезные братья мои, когда пред вами будут превозносить успехи просвещения, памятуйте, что самая хитрая уловка Дьявола в том и состоит, чтобы уверить вас, будто он вовсе не существует!»
Воспоминание об этом знаменитом ораторе, естественно, привело нас к вопросу об академиях, и мой необыкновенный собеседник заявил мне, что во многих случаях он не отказывается направлять перо, речь и мысль наставников юности и что он почти всегда самолично, хотя и невидимо, присутствует на академических заседаниях.
Ободренный такими проявлениями его благосклонности, я спросил его, как поживает Господь Бог, и давно ли он с ним виделся. Он ответил беззаботным тоном, однако, не без оттенка прискорбия: «Мы раскланиваемся при встречах, но так, как раскланиваются два старых джентльмена, у которых чувство врожденной вежливости не может окончательно заглушить воспоминаний о былой вражде».
Едва ли Его Светлость давал когда-либо такую продолжительную аудиенцию простому смертному и я боялся злоупотребить этим. Наконец, когда вздрагивающая от холода заря уже заглядывала в побелевшие оконные стекла, эта именитая персона, воспетая столькими поэтами и пользующаяся услугами стольких философов, которые, сами того не ведая, работают ей во славу, сказала мне: «Я желаю, чтобы вы сохранили обо мне хорошее воспоминание, и хочу доказать вам, что, хотя обо мне и говорят много дурного, но и я бываю иногда добрым малым, bon diable, как выражаются у вас в просторечии. Чтобы вознаградить вас за ту непоправимую утрату, которую вы понесли, лишившись своей души, я дарую вам все то, что вы получили бы с меня, если бы в нашей игре счастье оказалось на вашей стороне, а именно — средство облегчать и побеждать в течение всей вашей жизни этот своеобразный недуг — Скуку, источник всех ваших болезней и всех ваших жалких совершенствований. Отныне вам не придется испытывать ни одного желания, которое я не помог бы вам осуществить; вы будете властвовать над пошлыми душами себе подобных; вы будете окружены лестью и даже поклонением; деньги, золото, бриллианты, сказочные дворцы сами будут стекаться к вам и просить, чтобы вы их приняли без малейшего усилия с вашей стороны для завладения ими; вы будете менять отечество, переноситься из страны в страну так часто, как только подскажет вам ваша фантазия; вы будете упиваться восторгами сладострастья, не ведая пресыщения, в чудесных краях, где всегда тепло и где женщины так же ароматны, как цветы, и так далее, и так далее…» — произнес он, поднимая и отпуская меня с благосклонной улыбкой.
Если бы не опасение унизить себя перед столь многолюдным собранием, я бы готов был броситься к ногам этого великодушного игрока, чтобы выразить ему благодарность за его неслыханные щедроты. Но мало-помалу после того, как я расстался с ним, непобедимая недоверчивость снова овладела мною, я уже не смел верить такому чудодейственному счастью и, ложась спать и все еще творя молитву по старой глупой привычке, повторял в полузабытьи: «Господи! Господи Боже мой! Сделай так, чтобы Черт сдержал свое обещание».
XXX. Веревка
Эдуарду Манэ
Иллюзии, говорил мне мой друг, быть может, так же бесчисленны, как отношения людей между собою или как отношения людей к вещам. И когда иллюзия исчезает, то есть когда мы видим человека или факт таким, как он существует в действительности, независимо от нас, мы испытываем странное чувство, осложняемое частью сожалением об исчезнувшем призраке, частью — приятным изумлением перед новым, реальным фактом. Если существует явление очевидное, обыденное, всегда равное себе, явление, относительно сущности которого невозможно ошибиться, так это материнская любовь. Представить себе мать без материнской любви столь же трудно, как представить свет без теплоты; не натурально ли поэтому во всех словах, во всех поступках матери, относящихся к ее ребенку, видеть именно проявление материнской любви? А между тем выслушайте-ка эту маленькую историю, в которой я сделался жертвою странного и, в сущности, столь естественного заблуждения.
В качестве живописца я всегда внимательно вглядываюсь в лица, в физиономии, попадающиеся мне на пути, и вы знаете, какое наслаждение извлекаем мы из этой способности, благодаря которой самая жизнь становится для нас более яркой и более значительной, чем для других людей. В отдаленном квартале, где я живу и где строения до сих пор отделяются друг от друга широкими, заросшими травою пустырями, мне часто приходилось наблюдать ребенка, лицо которого, запечатленное жгучей страстностью и светившееся живым умом, с первого же взгляда поразило меня среди других детских лиц. Он не раз позировал мне и я превращал его то в цыганенка, то в ангела, то в мифологического Амура. Я изображал его то со скрипкой бродячего музыканта, то в Терновом Венце и со следами Гвоздей на руках, то с факелом Эроса. Этот забавный мальчуган до того нравился мне, что в конце концов я обратился однажды к его родителям, которые жили в большой нужде, с просьбою отдать мне его, причем обещал хорошо одевать его, давать ему немножко денег и не возлагать на него никаких обязанностей, кроме мытья кистей и исполнения моих поручений. Когда ребенка привели в надлежащий вид, он стал прелестен, а жизнь у меня казалась ему раем по сравнению с тем, что ему приходилось бы выносить в отцовской лачуге.
Однако я должен сказать, что этот человечек удивлял меня иногда какими-то странными приступами несвойственной его годам грусти и что он весьма скоро проявил чрезмерное пристрастие к лакомствам и ликерам. И вот однажды, убедившись, что, несмотря на мои неоднократные предупреждения, он снова совершил маленькую покражу того же рода, я пригрозил, что отошлю его к родителям. Затем я вышел из дому и дела заставили меня довольно долго пробыть в отсутствии.
Каковы же были мой ужас и мое изумление, когда по возвращении домой первое, что бросилось мне в глаза, был мой маленький приятель, резвый товарищ моей жизни, висевший на дверце вот этого шкафа! Ноги его почти касались пола, стул, который он, вероятно, оттолкнул ногой, лежал опрокинутым возле него, голова в судорожном движении склонилась на плечо, вздувшееся лицо и ужасающе-пристальный взгляд широко раскрытых глаз его в первую минуту создавали какую-то иллюзию жизни. Снять его из петли было не так легко, как вы, может быть, полагаете. Он успел уже порядочно закоченеть, и я испытывал неизъяснимый ужас при мысли, что он может грохнуться на пол. Приходилось одной рукой поддерживать тело, а другою разрезать веревку. Но и этим дело не кончилось; маленький злодей воспользовался очень тонкой бечевкой, которая глубоко врезалась ему в тело, и теперь, чтобы освободить шею, нужно было тонкими ножницами нащупывать бечевку в глубине рубца, который образовался на вздувшейся шее.
Я позабыл вам сказать, что сначала я громко звал на помощь, но все мои соседи отказались помочь мне, оставаясь верными привычке цивилизованного человека, который почему-то всегда избегает мешаться в дела повешенного. Наконец явился доктор, который и объявил, что ребенок умер уже несколько часов тому назад. Когда позднее нам пришлось раздевать его для погребения, окоченение трупа было так велико, что, отчаявшись в возможности согнуть его члены, мы принуждены были разрывать и разрезать на нем платье, чтобы как-нибудь снять его.
Комиссар, которому мне, конечно, пришлось заявить о случившемся, покосился на меня и сказал: «Дело неладно!» — вероятно, побуждаемый к тому закоренелым стремлением и профессиональной привычкой устрашать на всякий случай и правого, и виноватого.
Оставалось выполнить последнюю обязанность, одна мысль о которой приводила в состояние невыносимой тоски и трепета: нужно было известить родителей. Ноги мои отказывались повиноваться, когда я думал о том, чтобы пойти туда. Наконец я решился. Но, к великому моему изумлению, мать выслушала меня, не проронив ни одной слезинки. Я приписал эту странность тому ужасу, который она должна была испытывать, и мне вспомнилось распространенное изречение: «Самое страшное горе — немое горе». Что же касается отца, он ограничился тем, что наполовину тупо, наполовину задумчиво произнес: «В конце концов так-то оно, может быть, и лучше! Все равно не кончил бы он добром».
Между тем тело все еще лежало у меня на диване и я заканчивал с помощью служанки последние приготовления, когда мать покойного вошла в мою мастерскую. Ей хотелось бы, говорила она, взглянуть на труп сына. Не мог же я в самом деле помешать ей упиться своим горем и отказать ей в этом последнем печальном утешении… Потом она попросила меня показать ей то место, где повесился ее мальчик. «О нет, сударыня,— ответил я,— это причинило бы вам такое страдание!» Я невольно перевел глаза на злополучный шкаф и с отвращением, ужасом и гневом увидел, что в дверце его еще торчит гвоздь со свешивающимся до полу концом бечевки. Я бросился уничтожать эти ужасные следы происшедшего, но в ту минуту, как я хотел выбросить их в окно, несчастная женщина схватила меня за руку и проговорила раздирающим душу голосом: «О нет! оставьте мне это! Прошу вас! Умоляю вас!» Очевидно, она так обезумела от отчаяния, думалось мне, что терзается нежностью даже к тому, что послужило орудием смерти ее сына, и хочет сохранить это как страшную и дорогую реликвию. И она завладела гвоздем и бечевкой.
Наконец, наконец все было окончено! Оставалось снова приняться за работу с еще большим рвением, чем обыкновенно, чтобы мало-помалу освободиться из-под власти этого маленького трупа, призрак которого не давал мне покою, преследуя меня своими большими неподвижными глазами. Но на другой день я получил кипу писем: одни были от жильцов моего дома, несколько других из соседних домов, одно с первого этажа, другое со второго и еще с третьего и так далее; одни в полушутливом тоне — как бы для того, чтобы скрыть напускной игривостью всю серьезность просьбы; другие — тяжеловесно-наглые и безграмотные, но все клонили к одной и той же цели — к тому, чтобы заполучить от меня кусок этой злосчастной и чудотворной веревки. В числе писавших, должен заметить, было не столько мужчин, сколько женщин, но все они — будьте уверены в этом — отнюдь не принадлежали к низшему, невежественному классу населения… Я сохранил эти письма.
И тогда вдруг внезапная мысль блеснула в моем сознании и я понял, почему мать так настойчиво добивалась от меня этой веревки и какой торговлей она хотела утешаться.
XXXI. Призвания
В прекрасном саду, где, казалось, любовно медлили прощальные лучи осеннего солнца под зеленоватым небом, по которому, подобно странствующим материкам, плыли золотые облака, четверо детей, четыре славных мальчиков, без сомнения, утомившись играми, завели беседу меж собой.
Один говорил: «Вчера меня повели в театр. Там в величественных и мрачных дворцах, в глубине которых виднеются море и небо, говорят нараспев мужчины и женщины, серьезные и тоже мрачные, но гораздо более красивые и нарядные, чем все, кого мы видим обыкновенно. Они то угрожают друг другу, то умоляют, то предаются отчаянию и часто хватаются за рукоять кинжала, заткнутого за пояс. Ах, как это прекрасно! Женщины там гораздо красивее и выше ростом тех, которые приходят к нам в гости, и хотя они кажутся страшными с их большими впалыми глазами и пылающими лицами, все-таки нельзя не полюбить их. Становится страшно, хочется плакать и все-таки приятно… И потом — что особенно странно — является желание быть так же одетым, делать и говорить то же самое, что они, и произносить слова таким же певучим голосом…»
Один из четырех мальчиков, который уже несколько секунд не слушал товарища и с напряженным вниманием всматривался в какую-то деталь на небе, вдруг сказал: «Смотрите, смотрите! Видите вы Его? Он сидит вот на том одиноком облачке, на маленьком огненном облачке, которое медленно плывет… И Он тоже будто смотрит на нас».
«Да кто же это?» — спросили остальные. «Бог! — ответил он тоном глубокого убеждения. — Ах, Он уже далеко, сейчас Его уж будет не видно… Он, наверное, путешествует, посещает разные страны. Смотрите, сейчас Он будет над теми деревьями, вон там, почти на горизонте… А теперь Он спускается за колокольню… Ах, Его уж больше не видно!» И ребенок еще долго стоял, повернувшись в ту сторону и устремив на линию, которая отделяет землю от неба, пристальный взгляд, светившийся неизъяснимым выражением экстаза и сожаления. «Ну и глуп же он со своим Господом Богом, которого никто не видит, кроме него,— сказал третий мальчик, вся фигурка которого была отмечена какой-то особенной живостью и жизненностью. — Вот я так расскажу вам кое-что такое, чего с вами, наверное, никогда не случалось и что будет поинтереснее вашего театра и ваших облаков. Несколько дней тому назад родители мои взяли меня с собой в путешествие, и так как в гостинице, где мы остановились, не хватило для всех нас кроватей, то решили, что я буду спать в одной постели с моей няней,— он притянул поближе к себе своих товарищей и продолжал, понизив голос: — Это, знаете ли, такое странное чувство, когда лежишь не один, а в одной постели с няней в темноте. Та к как мне не спалось, то я сталь забавляться в то время, как она спала: гладил ее руки, шею, плечи. Руки и шея у нее гораздо полнее, чем у других женщин, а кожа такая нежная-нежная, словно почтовая или шелковая бумага. Это было так приятно, что я еще долго делал бы это, если бы мне не стало вдруг страшно — страшно, что вдруг она проснется, во-первых, и еще страшно сам не знаю чего. Потом я зарылся головой в ее волосы, которые падали у нее по спине, густые, как грива, и такие душистые — вот как цветы сейчас в саду, уверяю вас. Попробуйте когда-нибудь, если вам удастся, сделать то же самое, и вы увидите!»
Говоря таким образом, юный виновник столь удивительного открытия смотрел кругом широко раскрытыми глазами, словно изумленный всем тем, что он все еще переживал, а лучи заходящего солнца, просвечивая сквозь его косматые рыжие кудри, зажигали вокруг его головы сернистое сияние страсти. И было легко угадать, что этот не станет тратить жизнь на поиски Божества за облаками, но нередко будет находить его в совсем ином.
Наконец четвертый сказал: «Вы знаете, что дома мне живется невесело; меня никогда не берут в театр: мой опекун слишком скуп; Бог не заботится обо мне и о моих печалях, и у меня нет красивой няни, которая баловала бы меня. Мне часто думалось, что одно только было бы удовольствием для меня: идти все прямо, прямо, куда глаза глядят, так, чтобы никто даже и не знал об этом, и видеть все новые и новые страны. Мне никогда и нигде не бываешь хорошо и всегда кажется, что в других местах мне будет лучше, чем там, где я нахожусь. Та к вот, на последней ярмарке в соседнем селе я видел троих людей, которые живут так, как мне хотелось бы жить. Вы-то не обратили на них внимания. Они были высокого роста, почти совсем черные и очень гордые, несмотря на свои лохмотья: у них был такой вид, будто они решительно ни в ком не нуждаются. Их большие темные глаза стали совсем блестящими, когда они заиграли; и такая удивительная это была музыка, что от нее хотелось то плясать, то плакать, а не то и плясать и плакать вместе, и казалось, что с ума можно сойти, если слишком долго ее слушать. Один из них, медленно водя смычком по струнам скрипки, словно рассказывал о каком-то горе; другой, заставляя скакать свой молоточек по струнам маленького фортепиано, подвешенного ремнем к его шее, будто смеялся над жалобой своего соседа, между тем как третий время от времени бил с необычайною силою в цимбалы. Они были так довольны сами собою, что продолжали эту дикую музыку даже тогда, когда толпа уже разошлась. Наконец они подобрали полученные гроши, взвалили на спины свои пожитки и ушли. А я, желая узнать, где они живут, следовал за ними издали до самой опушки леса и только тогда понял, что они нигде не живут. Тут один из них сказал: „Не раскинуть ли нам шатер?“ — „По-моему, незачем,— ответил другой. — Ночь так хороша!“ Третий же говорил, считая выручку: „Эти люди не чувствуют музыку, а их женщины пляшут, словно медведи. К счастью, меньше, чем через месяц, мы будем уже в Австрии, там народ куда приятнее“. — „Не отправиться ли нам лучше в Испанию: время ведь близится к осени. Уйдем-ка до наступления дождей и будем промачивать только наши глотки?“ — сказал один из его товарищей. Я все запомнил, как видите… Потом они выпили по чарке водки и заснули, оборотившись лицом к звездам. Мне сначала хотелось попросить их взять меня с собою и выучить меня играть на их инструментах, но я не посмел, потому что ведь всегда очень трудно решиться на что-нибудь, и еще потому, что я боялся, как бы меня не поймали и не вернули прежде, чем я успею выбраться из Франции».
Безучастный вид трех остальных мальчиков навел меня на мысль, что этот ребенок был уже непонятым среди них. Я внимательно всмотрелся в него: в его взгляде, в очертаниях его лба, преждевременно обозначалось уже что-то роковое, обыкновенно отталкивающее людей, во мне же, не знаю, право, почему, вызвавшее такую симпатию, что на минуту у меня шевельнулась странная мысль: быть может, у меня есть брат, о котором сам я ничего не знал до сих пор?
Солнце уже зашло. Воцарилась торжественная ночь. Дети расстались: каждый пошел своей дорогой, чтобы бессознательно для себя, в зависимости от разных обстоятельств и случайностей, вершить свою судьбу, возмущать ближних, тяготеть к славе или к бесчестию.
XXXII. Тирс
Францу Листу
Что такое тирс? В моральном и поэтическом смысле — это священная эмблема в руках жрецов или жриц, славящих божество, истолкователей его воли и его служителей. Но в материальном смысле это не более как палка, простая палка, шест, увитый хмелем и виноградной лозой, прямой, сухой и твердый. Вокруг этого шеста, прихотливо изгибаясь, играют и резвятся стебли и цветы, стебли извилистые и непокорные, с цветами, склоненными на подобие колоколов или опрокинутых чаш. И неизъяснимым великолепием дышит вся эта совокупность линий и красок, нежных или ярких. Не кажется ли, что кривая линия и спираль ухаживают за прямой и пляшут вокруг нее в безмолвном поклонении? Не кажется ли, что все эти нежные венчики, все эти чашечки — взрыв ароматов и красок — исполняют таинственное фанданго вокруг священного жезла? А между тем какой неосторожный смертный дерзнет решать, созданы ли цветы и виноградные ветви ради жезла или самый жезл не более как предлог, чтобы проявить всю красоту виноградной лозы и цветов ее? Тирс — это олицетворение вашей изумительной двойственности, могущественный и почитаемый маэстро, дорогой нам служитель таинственной и страстной вакхической Красоты. Никогда еще нимфа, доведенная до исступления непобедимым Вакхом, не потрясала своим тирсом над головами обезумевших подруг с такою необузданною силою, как вы своим гением потрясаете сердца ваших ближних. Жезл — это ваша воля, прямая, твердая и непоколебимая; цветы — полет вашей фантазии вокруг вашей воли; женское начало, исполняющее восхитительные пируэты вокруг начала мужского. Прямая линия и арабеска, замысел и исполнение, упорство воли, гибкость выражения, единство цели, разнообразие средства, всемогущая и нераздельная амальгама гениальности — какой аналитик найдет в себе дерзостную смелость, чтобы разделить и разлучить вас?
Дорогой Лист! сквозь туманы и через реки, чрез города, где рояли поют вашу славу, a типографские станки отпечатлевают вашу мудрость, где бы вы ни были, в блеске ли Вечного города или в туманах задумчивых стран, утешаемых Гамбринусом, импровизируете ли вы песни радости и неизъяснимой скорби или же поверяете бумаге ваше глубокое раздумье, певец вековечных Восторгов и вековечной Тоски, философ, поэт и артист, приветствую вас в бессмертии вашем!
XXXIII. Опьяняйтесь
Нужно быть всегда в опьянении. В этом все, в этом единственная задача. Чтобы не чувствовать ужасной тяжести Времени, которое ломит ваши плечи и пригибает вас к земле, нужно опьяняться беспрерывно. Но чем? Вином, поэзией, добродетелью — чем хотите, но опьяняйтесь.
И если когда-нибудь — на ступенях ли дворца, в поросшем травою овраге или в угрюмом одиночестве своей комнаты — вы вдруг очнетесь, почувствуете, что опьянение рассеивается или рассеялось, спросите у ветра, у волны, у звезды, у птицы, у башенных часов, у всего, что бежит, у всего, что стонет, у всего, что струится, у всего, что поет и говорит, спросите, который час; и ветер, волна, звезда, птица, часы на башне ответят вам: «Час опьянения!.. Чтобы не быть рабами и мучениками Времени, опьяняйтесь, опьяняйтесь без конца! Вином, поэзией или добродетелью — чем хотите».
XXXIV. Уже!
Сто раз уже солнце вставало, то сияющее, то омраченное, из необъятной купели моря с еле видимыми краями ее в отдалении; сто раз оно снова погружалось туда то сверкающее, то угрюмое, будто свершая свое вечернее омовение. Уже много дней могли мы созерцать небо антиподов и разгадывать их небесные письмена. И пассажиры вздыхали и ворчали. Казалось, приближение земли доводило их до исступления. «Когда же,— говорили они,— качка и ветер, храпящий громче нашего, перестанут мешать нам спать? Когда же мы будем обедать, не раскачиваясь вместе с креслом?»
Были такие, которые думали о своем очаге, сожалели о своих неверных, сварливых женах и своем крикливом потомстве. Все с таким вожделением думали об отсутствующей земле, что, пожалуй, с восторгом бросились бы, подобно животным, пожирать растущую на ней траву.
Наконец был возвещен берег, и, приближаясь, мы увидели великолепную, ослепительную землю. Казалось, что созвучия жизни долетали оттуда неясным ропотом, а с берегов, богатых разнообразной растительностью, далеко разносился восхитительный аромат цветов и плодов.
Все тотчас же повеселели, сбросили дурное расположение духа. Все ссоры были забыты, взаимные обиды прощены, условленные дуэли вычеркнуты из памяти и всякая злоба рассеялась, как дым.
Один я был печален, неизъяснимо печален. Подобно жрецу, у которого исторгали бы его святыню, я не мог без гнетущей скорби оторваться от этого моря, столь чудовищно обольстительного, столь изумительно разнообразного в своей ужасающей простоте, от этого моря, как бы заключившего в себе и передающего в своих играх, движениях, в своих гневных порывах и улыбках капризы, муки и экстазы всех душ, которые когда-либо жили, живут и будут жить! Прощаясь с этою несравненной красотою, я чувствовал себя смертельно подавленным, и в то время, как каждый из моих спутников восклицал: «Наконец-то!» у меня сорвалось только: «Уже?» А ведь это была земля, земля с ее шумами, ее страстями, ее уютом и ее празднествами, земля богатая и великолепная, полная обетований, посылавшая нам таинственный запах роз и мускуса, земля, с которой музыка жизни доносилась к нам в любовном рокоте.
XXXV. Окна
Тот, кто глядит в открытые окна с улицы, никогда не видит всего, что можно увидеть, всматриваясь в закрытое окно. Нет ничего более глубокого, более таинственного, более завлекательного, более сумрачного, более ослепительного, чем окно, освещенное изнутри свечой. То, что можно видеть при солнечном свете, далеко не так интересно, как то, что творится за оконным стеклом. Ведь там, в этом небольшом, темном или освещенном пространстве живет, грезит, страдает человеческая жизнь. Над волнами крыш я вижу в окне пожилую женщину, уже в морщинах, бедную, всегда над чем-то склоненную, которая никогда не выходит из дому. По ее лицу, по одежде, движениям, по каким-то едва уловимым признакам я создал для себя историю ее жизни или, вернее, легенду о ней, и иногда я рассказываю ее самому себе и плачу. Если бы там жил бедный старик, я воссоздал бы точно так же и его историю. И я засыпаю в гордом сознании, что жил и страдал жизнью других, непохожих на меня людей. Быть может, вы скажете мне: «Уверен ли ты, что эта легенда верна действительности?» Но что мне за дело до того, какова может быть действительность, существующая вне меня, если моя легенда помогла мне жить — ощутить, что я существую, ощутить самого себя.
XXXVI. Жажда воссоздания
Несчастлив, быть может, человек, но счастлив художник, пожираемый своим желанием!
Я жажду воссоздать образ той, что являлась предо мною столь редко и скрылась столь быстро, как скрывается нечто прекрасное и желанное от путника, уносящегося в темноту ночи. Как давно уже ее нет!
Она прекрасна и более чем прекрасна, она поразительна. Черное господствует в ней, и все, от нее исходящее, запечатлено глубиной и ночью. Глаза ее — логовище, где смутно мерцает тайна, и взгляд ее сверкает как молния — вспышка во мраке. Я бы сравнил ее с черным солнцем, если бы можно было вообразить себе черное солнце, изливающее свет и счастье. Но, глядя на нее, скорее думаешь о луне, которая, несомненно, отметила ее своим роковым напечатлением; не о белой луне идиллий, напоминающей бесстрастную новобрачную, но о луне мрачной и пьянящей, повисшей в глубине бурной ночи и раскачиваемой вихрем облаков; не о мирной луне, навещающей украдкой сон чистых сердцем, но о луне, сорванной с неба, покоренной и мятежной, которую фессалийские колдуньи принуждают плясать на приникшей от ужаса траве!
За небольшим лбом ее таятся упорная воля и алчность к добыче. А между тем на волнующем лице ее с трепетными ноздрями, как бы вдыхающими аромат неизведанного и невозможного, в невыразимой прелести расцветает смех крупного рта, красного и белого и очаровательного: глядя на него, грезишь о каком-то чудо-цветке, великолепном цветке, распустившемся на вулканической почве.
Есть женщины, вызывающие желание покорить их и насладиться ими, но лишь умирать, медленно умирать хочется под ее взглядом.
XXXVII. Дары Луны
Сама причудливость, Луна, заглянула в окно, когда ты спала в колыбели, и сказала: «Это дитя мне нравится».
И мягко спустившись по своей облачной лестнице, неслышно проскользнула она сквозь оконные стекла. Потом распростерлась над тобой с трепетной нежностью матери и в лицо твое перелила свои краски. И вот стали глаза твои зелеными, а щеки — необычайно бледными. С тех пор, как ты созерцала эту гостью, так странно раскрылись твои вежды. И так нежно сдавила она тебе горло, что у тебя навсегда осталось желание плакать.
Между тем в порыве радости Луна наполнила всю комнату, как светящийся воздух, как лучистая отрава, и весь этот живой, волнующийся свет думал и говорил: «Теперь ты навеки подвластна моему поцелую! Прекрасной по-моему будешь ты. Ты полюбишь то, что я люблю и что любит меня: воду, облака, молчание и ночь, море огромное и зеленое, воду бесформенную и многообразную, страну, которую ты не увидишь, возлюбленного, которого не узнаешь, чудовищные цветы, ароматы, рождающие бред, кошек, сладострастно замирающих на рояле и стонущих, как женщины, сдавленным, нежным стоном. И будут любить тебя мои возлюбленные и будут поклоняться тебе мои поклонники. Ты будешь царицею людей с зелеными глазами, которым я, как и тебе, сдавила горло в моих ночных объятиях; царицею тех, кто любит море огромное, мятежное и зеленое, воду бесформенную и многообразную, страну, где им не суждено жить, женщину, которую им не дано узнать, зловещие цветы, подобные священным курильницам неведомого культа благоухания, смущающие волю, и сладострастных зверей — олицетворение безумия».
Вот почему, зачарованное и милое своенравное дитя, я лежу теперь у ног твоих и ищу во всем существе твоем отражение этого коварного Божества, этой вещей восприемницы, кормилицы-отравительницы всех тех, кто живет причудливыми грезами.
XXXVIII. Которая из двух настоящая?
Я знавал некую Бенедикту. От всего существа ее веяло прелестью идеального благородства и глаза ее пробуждали в душе жажду величия, красоты, славы — всего, что дает нам веру в бессмертие.
Но эта удивительная девушка была слишком прекрасна для жизни, и вот, всего несколько дней спустя после того, как я познакомился с нею, она умерла и я сам схоронил ее в один из тех дней, когда весна колеблет свое кадило даже над кладбищами. Заключив се в деревянный гроб, благовонный и нетленный, как индийские ларцы, я сам предал ее земле.
Но в то время, как глаза мои оставались прикованными к месту, где было погребено мое сокровище, я вдруг увидел маленькую женщину поразительного сходства с усопшей. В непонятном, истерическом исступлении топталась она на свежей могиле и, заливаясь смехом, говорила: «Вот она я — настоящая Бенедикта! Вот она я — отъявленная негодяйка! И вот наказание за твое безумие и ослепление — ты будешь любить меня такою, как я есть!» Но я в бешенстве ответил: «Нет! Нет! Нет!» И чтобы еще энергичнее выразить свой протест, ударил ногой о землю с такою силой, что погрузился по колено в рыхлую могильную насыпь и, как волк, попавшийся в капкан, остался, быть может, навсегда прикованным к могиле Идеала.
XXXIX. Породистая лошадь
Она дурна. И все же она очаровательна. Время и Любовь наложили на нее печать свою и безжалостно показали ей, сколько юности и свежести уносят с собой каждый поцелуй и каждое мгновение.
Она положительно дурна, это какой-то муравей, паук, пожалуй, даже скелет, и в то же время она — опьяняющий напиток, колдунья, чародейка! Словом, она обворожительна.
Годы не могли сокрушить живой и плавной красоты ее походки и неизменного изящества ее стана. Любовь не изменила в свежести ее детского дыхания и не поредела от времени ее грива, в звериных ароматах которой ощущается вся дьявольская живучесть французского юга — Нима, Экса, Арля, Авиньона, Нарбонны, Тулузы, этих благословенных городов-солнц, вечно влюбленных и обольстительных! Напрасно Время и Любовь так жадно впивались в тело ее, они были бессильны умалить неуловимую, но неизменную прелесть ее мальчишеской груди.
Разбитая, быть может, но не истощенная и всегда бодрая — она напоминает собою тех породистых лошадей, которых глаз настоящего любителя узнает даже тогда, когда они впряжены в наемную карету или громоздкую телегу.
И притом она так нежна и пылка! Она любит, как можно любить только осенью; как будто с приближением зимы вновь разгорается огонь в ее душе, а предупредительная нежность ее никогда не бывает навязчивой.
XL. Зеркало
Входит человек безобразнейшей наружности и смотрится в зеркало. «Зачем вы смотритесь в зеркало, раз вы ничего не можете испытывать при этом, кроме неудовольствия»? Человек безобразнейшей наружности отвечает: «Милостивый государь, согласно бессмертным принципам 89-го года все люди равны в правах, следовательно, и я имею право смотреться в зеркало, а с удовольствием или же с неудовольствием — это уж дело моей личной совести». С точки зрения здравого смысла я, без сомнения, был прав, но с точки зрения закона нельзя отказать в правоте и ему.
XLI. Гавань
Гавань — восхитительное место для души, истомленной в борениях жизни. Широта небес, изменчивые очертания облаков, переливающиеся краски моря, мерцанье маяков — вот чудесная призма, как бы созданная для того, чтобы радовать взоры, никогда их не утомляя. Стройные формы судов с их сложной оснасткой, которым передается мерное колыханье морской полны, поддерживают в душе непрерывное влечение к ритму и красоте. А главное, есть какое-то неизъяснимое, аристократическое наслаждение для человека, уже утратившего и любознательность, и честолюбие, в том, чтобы, лежа на террасе или облокотившись на камни мола, следить за всем этим непрерывным движением отплывающих и возвращающихся — тех, в ком еще сохранилась сила и воля жить, стремление путешествовать или обогащаться.
XLII. Портреты любовниц
В мужском будуаре, т. е. курильной комнате элегантного игорного дома, курили и пили четверо мужчин. Они были не то чтобы молоды, но и не стары, не красивы, хотя и не безобразны, но независимо от их возраста все они, бесспорно, были отмечены печатью ветеранов наслаждения, во всех чувствовалось то неуловимое нечто, та холодная и насмешливая грусть, которая ясно говорит: «Мы славно пожили, а теперь ищем чего-нибудь, что мы могли бы любить и уважать».
Один из них завел разговор о женщинах. Было бы, конечно, мудрее совсем не заговаривать на эту тему, но есть немало умных людей, которые, выпив стакан — другой вина, отнюдь не склонны пренебрегать банальными разговорами. В таких случаях рассказчика слушают, как слушали бы легкую бальную музыку.
– Все мы, мужчины, пережили возраст ангельской невинности, когда за неимением дриад мы готовы были обнимать стволы дубов. Это первая ступень любви. На следующей ступени мы уже начинаем выбирать. Способность рассуждать, бесспорно, знаменует собою падение. Тут мы начинаема гнаться непременно за красотой. Что касается меня, господа, то могу похвалиться тем, что давно уже достиг климактерического периода — третьей ступени жизни, когда красота сама по себе уже не удовлетворяет нас более, если только она не приправлена ароматами, нарядами и т. п. Я готов даже признаться, что стремлюсь иногда как к неизведанному блаженству, к некоей четвертой ступени, знаменующей собою полное успокоение. Но в течение всей моей жизни — разве только за исключением младенческих годов — я более чем кто-либо был чувствителен к раздражающей глупости, к невыносимой ограниченности женщин. Если я что-либо особенно люблю в животных, так это их непосредственность и простоту. Судите же сами, что я должен был выстрадать от моей последней любовницы. Это была незаконная дочь одного принца. Она была, разумеется, хороша собой, иначе зачем бы я взял ее! Но это превосходное качество сочеталось в ней с несносным, уродливым честолюбием. Это была женщина, которой вечно хотелось разыгрывать роль мужчины. «Какой вы мужчина! Вот если б я была мужчиной! Из нас двоих мужчина — это я». Вот неизменные, надоедливые слова, срывавшиеся с ее уст, между тем как мне хотелось слышать из них одни только песнопения. Если мне случалось — по поводу какой-нибудь книги, поэмы, оперы — выразить свое восхищение, она говорила: «Вы находите, быть может, что это очень сильно? Да разве вы понимаете, что такое сила?» И она принималась аргументировать. В один прекрасный день она взялась за изучение химии. и с тех пор между ее губами и моими вечно торчала какая-нибудь склянка. При этом она была порядочная недотрога. Если мне случалось бывало в пылу любви позволить себе с ней маленькую вольность, она съеживалась, как неосторожно задетая мимоза.
– Чем же это кончилось? — спросил один из трех остальных. — Я не думал, что вы так терпеливы!
– Господь Бог ниспослал мне средство от напасти,— ответил первый. — В один прекрасный день я застал эту Минерву, алчущую идеальной силы, наедине с моим слугою и в такой позе, что мне оставалось только незаметно удалиться, чтобы не заставить их покраснеть. К вечеру я отпустил их обоих, уплатив им все, что с меня следовало.
– Что касается меня,— сказали прервавший,— то я могу пожаловаться только на самого себя. Счастье посетило меня, но я не узнал его. Не так давно судьба даровала мне обладание женщиной, которая была, бесспорно, самым нежным, самым покорным и самым преданным из созданий — и всегда полна готовности! И без малейшего увлечения! «Хорошо! Конечно! Если только вы желаете!» — таков был ее обычный ответ. Колотите палками по этой стене или по этой кушетке — и вы извлечете из них больше вздохов, чем самые бешеные порывы любви могли их исторгнуть из груди моей возлюбленной. После года совместной жизни она призналась мне, что ни разу не испытала наслаждения. Мне опротивел этот неравный поединок, и несравненная девица эта вышла замуж. Впоследствии мне пришла фантазия повидаться с нею, и она сказала, показывая мне полдюжины славных ребят: «Так вот, дорогой друг мой, ваша бывшая любовница осталась столь же целомудренной и в качестве супруги». Ничто не изменилось в этой особе. Иногда я жалею о ней! Мне следовало бы на ней жениться.
Все рассмеялись и третий, в свою очередь, начал: — Господа, я изведал отрады, которыми вы, быть может, пренебрегли. Я буду говорить о комическом в любви, о том виде комизма, который, однако, не исключает восхищения. Я восхищался моей последней любовницей, быть может, более, чем вы могли любить или ненавидеть ваших. И все восхищались ею точно так же, как я. Когда мы входили в ресторан, все через несколько минут забывали о еде и принимались глазеть на нее. Даже лакеи и кассирша поддавались этому заразительному восторгу до того, что забывали свои обязанности. Словом, я прожил некоторое время бок о бок с истинной диковиной. Она не переставала есть, жевать, прожевывать, пожирать, поглощать, но все это с самым воздушным и беззаботным видом. В течение долгого времени она внушала мне настоящий восторг. У нее была какая-то нежная, мечтательная, английская и романтическая манера произносить: «Я голодна», и она повторяла эти слова днем и ночью, показывая прелестнейшие в мире зубки, которые вы нашли бы столь же трогательными, как и забавными. Я мог бы нажить целое состояние, показывая ее на ярмарках, как некое всепожирающее чудовище. Я кормил ее хорошо и все-таки она покинула меня…
– Для поставщика провианта, вероятно?
– Что-то в этом роде. Для какого-то интендантского чиновника, который благодаря кое-каким безгрешным доходам имел возможность предоставить бедняжке порцию, достаточную для насыщения нескольких солдат. Таковы по крайней мере мои предположения.
– А я,— сказал четвертый,— я перенес ужасающие страдания из-за того, что как раз противоположно обычному женскому эгоизму. Я нахожу, что вы напрасно жалуетесь на несовершенство своих любовниц, вы чересчур счастливые смертные!
Это было произнесено весьма серьезным тоном. Сказавший это человек был кроткого и степенного вида и по физиономии его можно было бы принять за особу духовного звания, но физиономия эта как-то странно освещалась теми прозрачно-серыми глазами, взгляд которых как бы говорит: «Так я хочу!», или «Так нужно!», или же «Я не прощаю!»
– Если бы вы, Г., при вашей нервозности, или вы оба, К. и Ж., при вашем малодушии и легкомыслии, были связаны с такой женщиной, с какой пришлось иметь дело мне, вы бы сбежали или умерли. Я, как видите, выдержал. Вообразите себе особу, решительно неспособную ошибиться — ни в чувстве, ни в расчете; вообразите себе убийственно-невозмутимую ясность духа, преданность без рисовки и без пылких фраз, кротость без слабости, силу без резкости. История моей любви подобна нескончаемому странствию по какой-то чистой, зеркально-гладкой поверхности, головокружительно-однообразной и отражавшей все мои чувства и поступки с беспощадной чувствительностью моей собственной совести, так что я не мог позволить себе ни единого неразумного поступка или чувства без того, чтобы тотчас же не заметить немого укора со стороны этого неотлучно сопутствующего мне призрака. Любовь явилась для меня чем-то вроде опеки. Сколько глупостей помешала она мне сделать и как я жалею, что их не сделал! Сколько долгов, уплаченных вопреки желанию! Она лишила меня всех тех отрад, какие могло доставить мне мое безрассудство. Ее холодные непререкаемые правила заграждали путь всем моим капризам. И к довершению всего, когда опасность оказывалась миновавшей, она даже не требовала от меня благодарности. Сколько раз приходилось мне сдерживать себя, чтобы не броситься на нее и не схватить ее за горло, крича: «Да будь же ты не так совершенна, несчастная, чтобы я мог любить тебя без тягости и без злобы!» В течение нескольких лет я преклонялся перед нею, с сердцем, переполненным ненавистью. И наконец… умереть суждено было все-таки не мне!
– А,— воскликнули остальные,— так, значит, она умерла?!
– Да. Больше так не могло продолжаться. Любовь превратилась для меня в удушающий кошмар. Победить или умереть, как говорят в политической борьбе,— такова была альтернатива, поставленная мне судьбою. Однажды вечером, в лесу… на краю залитого водой оврага… после меланхолической прогулки, когда ее глаза отражали ясность небес, а в моем сердце кипел ад…
– Как?!
– Что?!
– Что вы хотите сказать?!
– Это было неизбежно. Мне слишком свойственно чувство справедливости, чтобы я мог прибить, оскорбить или уволить безупречного слугу. Но нужно же было как-нибудь согласить это чувство с тем гнетущим ужасом, какой она мне внушала; освободиться от этого существа, не погрешав против своего уважения к нему. Что же мне, по-вашему, было с ней делать, если она была совершенна?
Три остальных собеседника посмотрели на него неопределенным, слегка оторопевшим взглядом, как бы показывая, что они не поняли, и в то же время как бы давая понять, что они, со своей стороны, чувствуют себя неспособными к такому жестокому, хотя и достаточно обоснованному поступку. Затем велено было принести еще несколько бутылок вина, чтобы как-нибудь убить живучее время и ускорить медлительное течение жизни.
XLIII. Галантный стрелок
Проезжая в коляске по лесу, он велел остановиться подле тира, говоря, что ему хотелось бы сделать несколько выстрелов, чтобы убить время. Убивать это чудовище — не есть ли это самое обычное и самое законное занятие для каждого из нас? И он галантно предложил руку своей дорогой, обворожительной и невыносимой жене, этой загадочной женщине, которой он был обязан столькими наслаждениями, столькими страданиями, а быть может, также и значительной долей своего вдохновения.
Несколько пуль ударилось далеко от намеченной цели; одна из них даже засела в потолке; и так как очаровательное создание безумно хохотало, насмехаясь над неловкостью своего супруга, что он вдруг круто повернулся к ней и сказал: «Посмотрите на эту куклу, вон там, направо, со вздернутым носиком и столь надменным видом. Так вот, мой ангел, я представляю себе, что это вы». И зажмурив глаза, он спустил курок. Кукла была обезглавлена.
Тогда, наклонившись к дорогой, обворожительной и невыносимой жене своей, к неизбежной и безжалостной своей Музе и почтительно целуя ее руку, он промолвил: «Ах, мой ангел! как я вам благодарен за эту ловкость».
XLIV. Суп и облака
Моя маленькая сумасбродная возлюбленная подала мне обед, а я следил в открытое окно столовой за плавучими чертогами, воздвигаемыми Господом Богом из паров, за этими дивными сооружениями из неосязаемого. И, созерцая, думал: «Все эти фантастические призрачные красоты могут сравниться только с глазами моей прекрасной возлюбленной, этой маленькой сумасбродки, этого милого зеленоглазого чудовища».
Но тут я получил размашистый удар кулаком в спину и услышал хрипловатый, пленительный для меня голос — голос истерический и как бы осипший от водки, голос моей милой маленькой возлюбленной: «Да скоро ли ты кончишь суп, черт бы тебя побрал, зевака эдакий! Звездочет!»
XLV. Тир и кладбище
«Вид на кладбище. Распивочная». «Странная вывеска,— подумал наш фланер,— однако довольно удачная и располагающая выпить! Очевидно, хозяин этого кабачка постиг премудрость Горация и поэтов-эпикурейцев. И быть может, даже ему не чужда глубокомысленная утонченность древних египтян, у которых ни одно большое пиршество не обходилось без скелета или какой-нибудь иной эмблемы быстротечности жизни».
И он вошел, выпил стакан пива, расположившись насупротив могил, и не спеша выкурил сигару. Затем ему пришло в голову выйти на кладбище, где так заманчиво разрослась высокая трава и так роскошно светило солнце.
Действительно свет и зной неистовствовали там, а солнце, будто опьяненное, распростерлось во всю ширь на великолепном ковре из цветов, тучно вскормленных тлением. В воздухе стоял неумолчный гул жизни — жизни мельчайших существ, прерываемый время от времени треском выстрелов с соседнего тира, которые хлопали, словно пробки от шампанского под глухое рокотанье струнного оркестра.
И вот под солнцем, горячившим его мозг, в атмосфере жгучих ароматов смерти, он услышал тихий голос из-под могильной плиты, на которой он сидит. И голос этот говорил: «Да будут прокляты ваши ружья и ваши мишени, вы, неугомонные живые, столь мало помышляющие об усопших и их неземном покое! Да будут прокляты ваши честолюбивые помыслы, да будут прокляты ваши расчеты, нетерпеливые смертные, вы, научающие искусство убивать близ святилища Смерти. Если б вы знали, как нетрудно получить приз, как легко попасть в цель и как ничтожно все, кроме Смерти, вы не стали бы так утруждать себя, хлопотливые живущие, и не тревожили бы столь часто сон тех, кто давно уже достиг Цели, единой истинной Цели этой невыносимо-тягостной жизни!»
XLVI. Потеря ореола
– Как! Что такое? Вы здесь, дорогой мой? Вы в непотребном месте! Вы, упивающийся нектаром! Вы, вкушающий амброзию? Поистине, есть от чего прийти в изумление.
– Дорогой мой, ведь вы знаете, до чего я боюсь лошадей и экипажей. Та к вот, недавно, в то время, как я торопливо переходил бульвар и, прыгая через лужи по грязи, пробирался сквозь этот мятущийся хаос, в котором смерть мчится на вас со всех сторон зараз, ореол мой при каком-то резком движении соскользнул у меня с головы и упал в грязь. Поднимать его я уж не решился. Я сообразил, что лучше лишиться своих регалий, чем допустить, чтобы тебе переломали кости. Да и к тому же, подумал я, нет худа без добра. Теперь я могу разгуливать, никем не узнанный, делать всякие гнусности и предаваться разврату как обыкновенные смертные. И вот я здесь, во всем подобный вам, как видите!
– Вы должны были бы по крайней мере напечатать объявление о пропаже вашего ореола или же принять меры к розыску его через полицию.
– По совести — нет! Мне здесь хорошо. Вы один узнали меня. К тому же мне так надоело блюсти свое достоинство. И наконец я с удовольствием думаю о том, что его подберет какой-нибудь плохонький поэт и нагло украсит им свою голову. Ведь это такое наслаждение — осчастливить кого-нибудь! Особенно, если над этим счастливцем можно посмеяться! Представьте себе только X или Z! А? Ну не уморительно ли?!
XLVII. Мадемуазель Бистурей
Я был уже в самом конце предместья, в трепетном свете газовых рожков, когда почувствовал, что кто-то тихонько берет меня под руку, и услышал голос, прошептавший у самого моего уха:
– Ведь вы доктор? Скажите!
Я обернулся; это была высокая, плотная девушка, слегка подбеленная и подрумяненная, с широко открытыми глазами и распущенными волосами, которые развевались по ветру вместе с лентами шляпки.
– Нет, я не доктор. Не задерживайте, пожалуйста.
– Ну вот еще! Конечно, вы доктор. Разве я не вижу! Пойдемте ко мне. Вы останетесь очень довольны, верно вам говорю!
– Разумеется, я навещу вас, но потом, после доктора, черт побери!..
– Ах вот что! — воскликнула она, все еще вися на моей руке и заливаясь смехом. — Да вы, я вижу, доктор-шутник! Знавала я и таких… Пойдемте.
Я страстно люблю тайну, потому что всегда надеюсь разгадать ее. И вот я дал себя увлечь моей спутнице, вернее, этой нежданно явившейся мне загадке.
Я не останавливаюсь на описании каморки, его можно найти у многих старых французских поэтов, достаточно известных. Одна только деталь, неподмеченная у Ренье: два-три портрета знаменитых докторов висели по стенам.
Как за мною ухаживали! Пылающий камин, горячее вино, сигары, и, угощая меня и сама закуривая сигару, эта чудачка говорила мне:
– Будьте как дома, друг мой, располагайтесь, как вам удобнее. Это напомнит вам клинику и добрые времена вашей молодости. Вот тебе на! Как это вы умудрились поседеть? Ведь вы не были таким еще совсем недавно, когда состояли интерном у доктора Л. Я помню, вы ассистировали ему при тяжелых операциях. Вот человек, который любит резать, да срезать, да подрезать! Вы еще подавали ему инструменты, нитки и губки… А по окончании операции он, бывало, с гордостью произносил, глядя на часы: «Ровно в пять минут, господа!» О, я ведь повсюду хожу. Я прекрасно знаю этих господ.
Несколько минут спустя, перейдя уже на «ты», она вновь завела свою песню, повторяя:
– Ведь ты доктор, не правда ли, котик?
Этот непонятный припев заставила меня привскочить на месте.
– Нет! — крикнул я в бешенстве.
– Верно, хирург?
– Да нет же! Нет! Разве только чтобы отрезать тебе голову! Чертова кукла!
– Постой,— ответила она,— посмотри-ка!
И она вытащила из шкафа связку литографий, которая, как оказалось, представляла собою коллекцию портретов знаменитых врачей того времени работы Морена, несколько лет подряд красовавшуюся на выставке у букинистов Quai Voltaire.
– Ну-ка! Вот, этого узнаешь?
– Да! Это X. Впрочем, имя здесь обозначено. Но я и лично знаю его.
– Еще бы!.. А вот Z., тот самый, что, бывало, говорил про X. на лекциях: «Это чудовище, на лице которого отражается вся низость его души». Все из-за того, что тот не сошелся с ним во мнениях по какому-то там вопросу!.. И смеялись же над этим наши медики в ту пору. Помнишь? А вот К., тот, что доносил правительству на бунтовщиков, которые лежали у него в клинке. Это было во время бунтов. И как это такой красивый мужчина вдруг оказывается таким бессердечным?.. А это У., знаменитый английский врач; я поймала его в то время, когда он приезжал в Париж. С виду-то он как есть барышня! Не правда ли?.. Погоди,— сказала она, заметив, что я взялся за перевязанный веревочкой пакет, который лежал тут же, на столике. — То были врачи-интерны, a в этом пакете экстерны.
И она разложила веером массу фотографических карточек, изображавших гораздо более молодые лица.
– Когда мы опять увидимся, ты ведь дашь мне свой портрет? Не правда ли, миленький?
– Однако,— сказал я, преследуемый, как и она, одной и той же неотвязной мыслью,— почему это, ты считаешь меня доктором?
– Да потому, что ты такой милый и такой добрый с женщинами!
«Странная логика!» — подумал я.
– О! меня не проведешь; я ведь знала столько докторов. И я так люблю их, что хотя и не больна, а все-таки захожу иногда посмотреть на них, просто чтобы посмотреть. Есть такие, которые холодно говорят мне: «Да вы вовсе не больны!» Ну a другие понимают меня, потому что ведь я делаю им глазки.
– А если они не понимают тебя?
– Ну, если я потревожила их напрасно, я оставляю у них на камине десять франков. Они такие славные, эти люди, и такие ласковые! Я откопала в la Pitiе одного молоденького интерна. Хорошенький, как ангелок, и такой обходительный! А работает-то сколько, бедняжка! Его товарищи говорили мне, что у него нет ни гроша, потому что родители его — люди бедные и ничего не могут высылать ему. Это придало мне смелости. Правду сказать, я ведь довольно красивая женщина, хоть и не очень молода. Я и стала говорить ему: «Заходи ко мне! Заходи почаще! Да не стесняйся со мной: денег ведь мне не нужно». Но ты понимаешь, конечно, что я давала ему это понять и так и эдак, а не то чтобы прямо — взяла да и брякнула! Я так боялась оскорбить его, этого милого мальчика! И вот, поверишь ли, есть у меня одно странное желание, которое я не решаюсь ему высказать? Мне хотелось бы, чтобы он пришел ко мне как-нибудь со своими инструментами и в фартуке, даже немного запачканном кровью!
Она сказала это с совершенно невинными видом, как сказал бы чувствительный человек актрисе, в которую он влюблен: «Я хочу видеть вас в том платье, которое было на вас, когда вы играли такую-то знаменитую вашу роль». Я вернулся к занимавшему меня вопросу и спросил:
– Не можешь ли ты припомнить, когда и при каких обстоятельствах зародилось в тебе это необыкновенное пристрастие?
Я не сразу добился, чтобы она поняла меня, наконец это мне удалось. Но тогда она ответила очень грустно и даже, насколько мне помнится, отведя глаза в сторону:
– Не знаю… не помню, право.
Каких только странностей не встретит в большом городе человек, который любит бродить и присматриваться к окружающему! Жизнь кишит невинными чудовищами. Господи Боже мой! Ты Творец, Ты Вседержитель, Ты, создавший Закон и Свободу, Ты Владыка вседозволяющий, Ты Судья всепрощающий, Ты источник всех целей и всех причин, Ты, вложивший в душу мою влечение к ужасному, быть может, для того, чтобы обратить сердце мое наподобие того, как лезвие ножа приносит исцеление страждущему! О Господи, сжалься, сжалься над безумными! О Творец! Могут ли существовать чудовища пред лицом Того, кто один ведает, почему они существуют, как они до этого дошли и как они могли бы этого избегнуть?
XLVIII. Any where out of the world
Куда угодно, только прочь из этого мира.
Жизнь — это больница, где каждый больной одержим желанием переменить койку. Один предпочел бы страдать около печки, другой думает, что выздоровел бы у окна. Мне представляется, что я всегда хорошо чувствовал бы себя там, где меня нет, и этот вопрос о переселении — один из тех, о которых я постоянно беседую со своей душой. «Скажи мне, душа моя, бедная застывшая душа моя, что ты думаешь о том, чтобы поселиться в Лиссабоне? Там, должно быть, жарко и ты ожила бы там, как ящерица на солнце. Город этот стоит на берегу моря, говорят, что он весь построен из мрамора и что народ там до того ненавидит растительность, что истребляет деревья. Вот пейзаж в твоем вкусе — пейзаж из света, камня и воды, их отражающей!
Душа моя не отвечает.
Ты так любишь покой в соединении с зрелищем движения, так не хочешь ли поселиться в Голландии, в этом благословенном краю? Быть может, ты нашла бы себе какую-нибудь отраду в этой стране, изображениями которой ты так часто любовалась в музеях. Что скажешь ты о Роттердаме? Ведь тебе так нравятся эти леса мачт и корабли, стоящие на якоре у самых домов?
Душа моя безмолвствует.
Быть может, тебе больше улыбается Батавия? Там мы нашли бы просвещенный дух Европы в соединении с красотами тропиков.
Ни слова. Уж не умерла ли моя душа?
Неужели же ты дошла до такого оцепенения, что тебе ничто уж не мило, кроме собственного страдания? Если так, то бежим в страны, где все является подобием Смерти. Итак, решено, бедная душа! Мы отправимся в Торнео. А не то поедем еще дальше — к самым отдаленным краям Балтийского моря, еще дальше от жизни, если возможно — переселимся на полюс. Там бледные лучи солнца едва касаются земли, а медленное чередование дня и ночи уничтожает разнообразие и увеличивает монотонность, которая сама по себе есть уже наполовину небытие. Там мы будем надолго погружаться в волны мрака, между тем как северные сияния, как бы в утеху нам, будут разбрасывать время от времени снопы своих розовых лучей, подобные отблескам фейерверка, сжигаемого где-то в недрах ада.
Наконец душа моя выходит из своего оцепенения и разумно отвечает: 'Куда угодно! Куда угодно! Только прочь из этого мира».
XLIX. Доконаем неимущих!
В течение двух недель я сидел взаперти в своей комнате, окружив себя книгами, которые в то время (лет шестнадцать-семнадцать тому назад) были особенно в моде; я разумею книги, трактующие о том, как в двадцать четыре часа сделать народы счастливыми, мудрыми и богатыми. И так я насытился, лучше сказать — напичкался стряпней всех этих радетелей народного блага — и тех, что советуют всем неимущим отдаться в рабство, и тех, что уверяют, будто все бедняки — изверженные цари. Нет ничего удивительного, что я оказался после этого в состоянии, близком к умопомешательству или полному одурению.
Однако мне чудилось, что в глубине моего интеллекта шевелится неуловимый зародыш какой-то идеи — идеи высшего порядка по сравнению с тем, что заключалось во всех этих знахарских рецептах, собрание которых я только что пересмотрел. Но это была лишь идея идеи — нечто совершенно смутное.
И вот я вышел из дому, почувствовав мучительную жажду. Ведь нездоровое чтение в больших дозах всегда вызывает, соответственно, сильную потребность в свежем воздухе и в прохладительных напитках.
Я был уже у дверей кабачка, когда ко мне подошел нищий. Он подставил мне шляпу, посмотрев на меня тем неподдающимся описанию взглядом, который мог бы пошатнуть любой трон, если бы только дух приводил в движение материю, а взгляд магнетизера ускорял созревание плодов. В ту же минуту я услышал у самого моего уха тихий голос, который я не мог не узнать: это был голос повсюду сопровождающего меня доброго Ангела или доброго Демона. Если у Сократа был добрый Демон, то почему бы мне не иметь своего доброго Ангела и почему бы мне не удостоиться заодно с Сократом диплома на звание сумасшедшего, который бы точно так же подписал хитроумный Лелю и весьма проницательный Байарже.
Между Демоном Сократа и моим существует, однако, та разница, что Демон Сократа являлся ему только для того, чтобы его ограждать, предупреждать, удерживать, мой же снисходит до советов, внушений, увещаний. У этого бедного Сократа Демон был только запрещающий; мой же Демон — великий поощритель, это Демон действия или Демон борьбы.
И вот голос его нашептывал мне: «Лишь на того можно смотреть, как на равного, кто докажет это, и лишь тот достоин свободы, кто сумеет ее завоевать».
Тотчас же я кинулся на нищего. Я хватил его кулаком в глаз и глаз мгновенно вздулся бугром. Я выбил ему два зуба, причем сломал себе ноготь, но я оказался недостаточно силен, чтобы сразу справиться со стариком, ибо был от природы нижнего телосложения и мало упражнялся в боксе, а потому, схватив его одной рукой за шиворот, а другой — за горло, я принялся что есть мочи бить его головой об стену. Должен сознаться, что я сначала предусмотрительно оглянулся кругом и убедился, что в этих пустынных улицах я был надолго обеспечен от появления какого-либо полицейского чина.
Наконец, повалив ослабевшего старика наземь и чуть не сломав ему лопатки здоровенным ударом ноги в спину, я схватил валявшуюся на земле толстую суковатую палку и принялся колотить его с тупым усердием повара, изготовляющего биток.
И вдруг — о чудо, о радость философа, получившего отличное подтверждение своей теории! — я увидел, что эта развалина переворачивается, поднимается на ноги, расправляет члены с такой энергией, какой я никогда и не заподозрил бы в такой на редкость развинченной машине, и, кинув на меня взгляд ненависти, который показался мне добрым предзнаменованием, старый пройдоха бросился на меня, подбил мне оба глаза, выбил четыре зуба и моей же собственной палкой нещадно исколотил меня. Итак, своим энергическим медикаментом я пробудил в нем гордость и вернул его к жизни.
Тогда я принялся изо всех сил делать ему знаки, что считаю нашу распрю оконченной, и, поднявшись с удовлетворением софиста, выходящего из портика, сказал ему: «Милостивый государь! Мы равны! Окажите мне честь разделить со мной содержимое моего кошелька и имейте в виду, если только вы настоящий филантроп, что, когда ваши собратья будут просить у вас милостыню, к ним нужно применять ту же самую теорию, которую я имел прискорбие испытать на вашей спине».
Он поклялся мне, что хорошо уразумел мою теорию и будет следовать моим советам.
L. Славные собаки
Г. Жозефу Стевенсу
Я никогда не стыдился, даже перед молодыми писателями-современниками, того восхищения, какое внушает мне Бюффон, но не к его душе, не к душе этого ученого, изображавшего нам природу во всем ее великолепии, взываю я сегодня. О нет.
Скорее обратился бы я к Стерну и сказал бы ему: «Снизойди с неба иди восстань из Елисейских полей и вдохнови меня на песню в честь этих славных, добрых собак — песню, достойную тебя, сентиментальный шутник, шутник бесподобный! Возвратись верхом на том бессмертном осле, что всегда сопровождает тебя в памяти потомства; а главное, чтоб этот осел предстал перед нами не иначе, как с незабвенной корочкой хлеба, любовно прикрепленной хозяином к его уздечке». К черту академическую музу! Что я с ней буду делать, с этой старой ханжой! Я призываю простодушную, безыскуственную музу, полную жизни горожанку — и да поможет она мне воспеть этих славных собак, бедных, грязных собак, которых все отгоняют, словно зачумленных или паршивых, все, кроме их сотоварища-бедняка да поэта, который смотрит на них взглядом собрата.
Плевать мне на собаку-красавицу или красавчика — этого четвероногого фата — кинг-чарльз датскую, моську или болонку, которые до того влюблены в себя, что бесцеремонно суются под ноги или прыгают на колени к посетителю, словно уверенные в своей привлекательности, шумливые, как дети, глупые, как лоретки, подчас сварливые и дерзкие, как прислуга! Плевать мне на этих змей о четырех лапах, вечно дрожащих и праздных, которые именуются левретками и в острой морде которых нет настолько чутья, чтобы разыскать друга по следам, а в сплюснутой голове — настолько ума, чтобы играть в домино. На место, несносные дармоеды!
Сидите себе по своим уютным, мягким конурам. Я воспеваю собаку грязную, бедную, собаку бездомную, собаку-бродягу или собаку-акробата — собаку, инстинкт которой, как и инстинкт бедняка, цыгана и гаера, до тонкости изощрен нуждою, этой доброй матерью, этой истинной покровительницей всякого изощрения и развития.
Я воспеваю собак горемычных, тех, что одиноко бродят по кривым переулкам огромного города, как и тех, что, приставь к бесприютному человеку, сказали ему своими умными моргающими глазами: «Возьми меня с собой и, быть может, нам удастся, слив две наши бедственные жизни, найти хоть немножко счастья».
«Куда спешат собаки?» — вопрошал когда-то Нестор Рокплан в бессмертном фельетоне своем, который сам он, наверное, уже позабыл и который доныне остался памятным лишь мне, да, быть может, еще Сент-Беву.
Куда спешат собаки, спрашиваете вы, ненаблюдательные люди? Они спешат по делам.
И у них есть свои деловые встречи, любовные свидания. В туман, в метель, в слякоть, в палящий зной, под проливным дождем они спешат, трусят, бегут, проскальзывая под экипажами, подгоняемые блохами, побуждаемые страстью, потребностью или велением долга. Подобно нам, они с раннего утра уже на ногах — в поисках пропитания, в погоне за удовольствиями. Некоторые из них находят ночной приют где-нибудь в развалинах предместья, а потом ежедневно в урочный час приходят просить подаяния у дверей одной из кухонь Паля-Рояля; другие целыми стаями бегут за пять лье, чтобы разделить между собою трапезу, уготованную им милосердием какой-нибудь шестидесятилетней девы, отдавшей свое незанятое сердце животным, ибо ведь глупые мужчины пренебрегли им.
Есть и такие, которые, подобно беглым неграм, обезумев от желания, в известные дни покидают свои селения и устремляются в город, чтобы повертеться и попрыгать часок-другой вокруг красавицы-суки, несколько небрежной в своем туалете, но горделивой и признательной.
И все они чрезвычайно аккуратны — без всяких записей, без памятных книжек и бумажников!
Знакомы ли вы с ленивой Бельгией и любовались ли вы, подобно мне, этими могучими псами, запряженными в тележку мясника, молочницы или булочника и выражающими своим победным лаем горделивое удовольствие, которое они испытывают от соперничества с лошадьми?
А вот два существа, принадлежащие к еще более цивилизованной среде! Позвольте мне ввести вас в комнату клоуна во время его отсутствия. Крашеная деревянная кровать без занавесок, со сползающим на пол одеялом, загаженным клопами, пара соломенных стульев, чугунная печка и два-три поломанных инструмента. Печальная обстановка! Но взгляните, пожалуйста, на эти два умных создания в истрепанных, но все еще пышных нарядах, в головных уборах воинов или трубадуров, уставившиеся с сосредоточенностью колдунов на неведомое зелье, которое потихоньку кипит на растопленной печке и из которого торчит воткнутая в него длинная ложка, словно высоко вздымающийся флагшток, возвещающий об окончании стройки.
Не справедливо ли будет, чтобы столь усердные комедианты, прежде чем пуститься в путь, наполнили желудок густым сытным супом? И неужели вы не будете снисходительны к маленькому проявлению чувственности у этих бедных тварей, которым с утра до ночи приходится преодолевать равнодушие публики и выносить несправедливость хозяина труппы, забирающего себе львиную долю и съедающего суп за четверых!
Сколько раз созерцал я с улыбкой умиленья этих философов на четырех лапах, этих услужливых, покорных или преданных рабов, которых республиканский словарь отлично мог бы причислить к должностным лицам государства, если бы только республика, чрезмерно поглощенная заботами о благоденствии людей, нашла время воздать по заслугам и псам.
И как часто думалось мне, что, быть может, для воздаяния за все это мужество, за все это терпение и труды, есть все-таки где-нибудь (как знать, в конце концов!) особый рай для собак, для этих славных бедных собак, грязных и измученных. Ведь уверяет же Сведенборг, будто существует особый рай для турок и особый — для голландцев! Пастухи Вергилия и Феокрита, состязаясь в искусстве пения, ожидали получить в награду круг доброго сыру, флейту хорошей работы или козу с переполненными сосцами. Поэт, воспевший бедных собак, получил в награду за это прекрасный жилет роскошного и в то же время блеклого цвета, глядя на который, невольно думаешь о бледном осеннем солнце, о красоте отцветающих женщин и о последних ясных днях уходящего лета.
Никто из присутствовавших в тот день в таверне на улице Вилла-Гермоза не забудет, с какою стремительностью художник скинул с себя этот жилет, чтобы отдать его поэту: настолько живо почувствовал он, что хорошо и благородно было воспеть этих бедных собак.
Так великолепный итальянский тиран доброго старого времени преподносил божественному Аретино то украшенный драгоценными камнями кинжал, то придворную мантию за изысканный сонет или забавную сатирическую поэму.
И всякий раз, что поэт надевает этот жилет, он невольно думает об этих добрых псах, о собаках-философах, о последних ясных днях уходящего лета и о красоте отцветающих женщин.
Эпилог
Я в гору поднялся с душою просветленной.
Весь город в полноте внизу я видеть мог,
Ад и чистилище, больницы и притоны,
Где все безмерное раскрылось, как цветок.
Ты знаешь, Сатана, тоски моей владыка,
Я от напрасных слез там был всегда далек;
Шел опьяняться я блудницею великой,
Как дряхлый любодей любовницей седой,
И адской прелестью я оживлялся дико.
Ты спишь ли поутру, под мглистой пеленой,
С хрипеньем, грузная, иль вечер заискрится –
И ты красуешься в одежде золотой,
Люблю тебя, люблю, о грешная столица!
Преступники, вы нам даете наслажденье,
Которое уму обычному не снится.
Перевод Л. Гуревич и С. Парнок, 1909
*Редакция категорически против употребления любых наркотических или психотропных веществ. Они опасны для здоровья, их незаконное распространение влечет уголовную ответственность. Текст носит исключительно информационный характер.