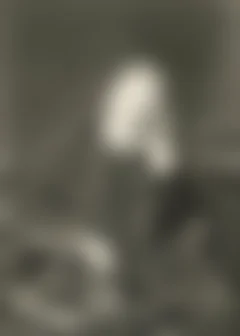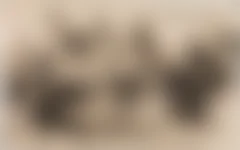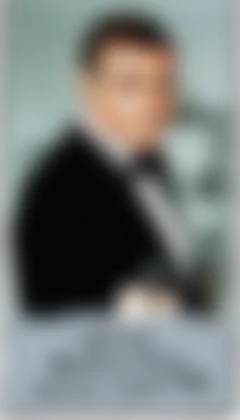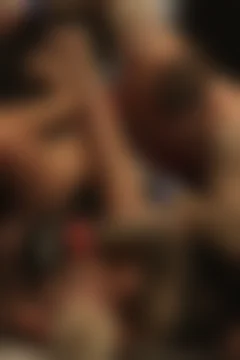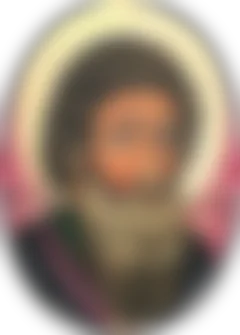Она родилась в эпоху модемов и e-mail, окрепла на сайте молекулярного биолога Венди Норткатт и превратилась в отдельный жанр историй: «люди, которые улучшили генофонд, добровольно выбыв из него». За смешным названием — строгие правила, спорная этика и почти тридцатилетняя хроника человеческой беспечности.
В середине 1980-х на ранних форумах сети Usenet начали гулять короткие заметки о «самых нелепых способах уйти из жизни». Название подобралось само собой: «Дарвин» — не из-за того, что Чарльз кого-то награждал, а потому что в этих историях видели карикатуру на естественный отбор. Тогда это были пересказы и байки из разряда «кто-то где-то слышал». Массовой и узнаваемой премия Дарвина стала позже — когда за дело взялась Венди Норткатт.
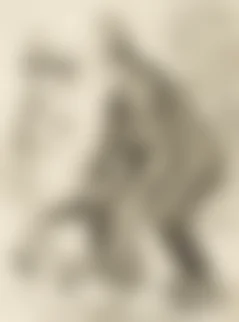
«Почтенный орангутанг» — карикатура на Чарльза Дарвина в образе обезьяны, опубликованная в сатирическом журнале «The Hornet», 1871
University College London Digital Collections
Норткатт окончила университет с дипломом молекулярной биологии и работала в лаборатории, а вечерами разбирала присланные по почте вырезки и письма. Друзья и читатели пересылали ей заметки о странных несчастных случаях. В 1993 году она запустила сайт DarwinAwards.com — домашнюю страничку с простым дизайном и четкими правилами отбора. У каждого случая должен был быть «научный фильтр»: человек погиб (или необратимо лишил себя возможности иметь детей), сделал это по своей воле и по собственной глупости, достиг совершеннолетия и не пострадал от чужого злого умысла. И еще одно — подтверждаемость. Никаких «у тети друга коллеги». Нужны новости, полицейские отчеты, хотя бы два надежных источника.
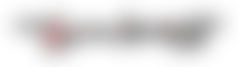
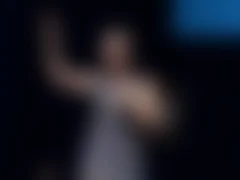
Венди Норткатт
TEDx SF / Flickr
Эта установка отличала проект от бесконечных городских легенд. Самая знаменитая из них — миф о «ракетном автомобиле». Будто бы житель Аризоны прикрутил к машине авиационный ускоритель и улетел в скалу. История десятилетиями кочевала по рассылкам, но подтверждений так и не нашла. На сайте Норткатт подобные рассказы получали пометку «легенда», а рядом появлялась ссылка на разбор и опровержение. Жанр оставался комичным, а метод — педантичным.
У проекта быстро сложилась «система заслуг».
Главные лауреаты — те, кто по критериям «улучшил генофонд», сами исключив себя из него.
«Почетные упоминания» доставались тем, кто чудом выжил, но сотворенное ими выходило за рамки здравого смысла. В отдельную корзину шли истории, которые казались правдоподобными, но на момент публикации не проходили проверку.
Чужих жертв в номинации не было принципиально, если страдал невинный прохожий, история в архив не попадала. Если человек действовал из альтруизма и погиб, спасая другого, — это трагедия, но не номинация. Если важную роль сыграла тяжелая психическая болезнь, история не рассматривается. Если все объясняется чистой неисправностью техники без рискованных действий — тоже мимо.
Для тех, кто уцелел, но совершил нечто из ряда вон, предусмотрены «почетные упоминания».
Они поучительны, но не про естественный отбор в строгом смысле. В основном это те, кто выжил. Например, любитель самодельных взрывных мишеней, простреливший себе грузовик, или мастер «улучшить» электропроводку в пруду. Они не покидают генофонд, но их истории попадают в архив с тем же посылом — «не повторять».
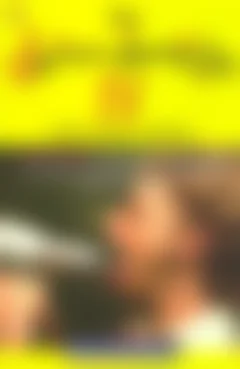
Penguin Random House Australia (3)

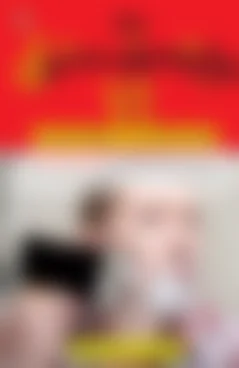
В девяностые премия Дарвина стала вирусной, задолго до социальных сетей. Ее рассылали письмами, печатали в корпоративных бюллетенях, пересказывали на кухнях. Сайт рос, вокруг него сформировалось сообщество добровольцев, которые помогали проверять факты и искать первоисточники. В конце десятилетия вышла первая книга Венди Норткатт — сборник подтвержденных кейсов под издательским слоганом «Эволюция в действии». Потом — еще тома, антологии.
Была даже игровая экранизация 2006 года — кино про страхового следователя, который ищет потенциальных лауреатов.
Параллельно росла критика. Биологи и научные популяризаторы спорили с самой идеей «улучшения генофонда»: эволюция не наказывает глупость мгновенно, а человеческое поведение редко сводится к генам. Этики замечали, что за «смешными» историями часто стоят бедность, зависимость, отсутствие образования. Журналисты указывали на уязвимость формата: как ни проверяй факты, часть историй все равно окажется сплетнями. Норткатт отвечала правилами сайта: несовершеннолетние — мимо, психические заболевания — мимо, любой намек на подлог — в корзину. Дискуссии не утихали, но премия Дарвина оставалась тем, чем была изначально, — сатирическим зеркалом, поданным с научной педантичностью.

Кадр из фильма «Премия Дарвина», 2006
East News
За годы на сайте накопились десятки сюжетных «типажей». Герой, который решил почистить колодец при помощи бензогенератора и вдохнул выхлопы. Мастер, проверяющий заряд пистолета, глядя в ствол. Любитель селфи, делающий снимок на краю крыши. Рыбак, который думал, что динамит ускорит клев. Во всех этих историях повторялся один и тот же мотив: момент, когда здравый смысл уступал место самоуверенности, а бытовая задача превращалась в фатальный квест. Сборник таких эпизодов оказался темой, которую аудитория легко узнает и по сей день.
С ростом популярности Норткатт приходилось защищать проект — юридически и репутационно. Семьи пострадавших иногда присылали претензии.
Никто не хотел видеть имя близкого человека в сатирическом списке.
Издатели проверяли формулировки, юристы советовали убирать конкретику, если не хватает источников. Часть публикаций сопровождалась осторожными ремарками: «подтверждается таким-то изданием», «полицейский отчет получен». Сайт превратился в архив с системой ссылок и комментариев, где рядом с заметкой могла появиться дискуссия о корректности трактовки.
Сама Венди Норткатт охотно рассказывала, почему делает это именно так. По ее словам, премия Дарвина — не насмешка над чужой смертью, речь про уроки: что случается, когда игнорируют элементарные правила безопасности. На сайте для этого даже появился раздел «Выжившие предупреждают», где описывались травмы, которые могли закончиться хуже. Сатира соседствовала с профилактикой.
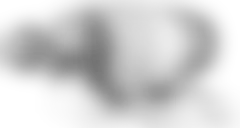
Чарльз Ственс (1862–1920) — парикмахер из Бристоля, решил спуститься в бочке по Ниагарскому водопаду. Он закрепил на дне бочки наковальню, забрался внутрь, привязал ноги к наковальне и обложил себя подушками. Во время падения дно бочки проломилось. Тело парикмахера так и не нашли
Google books
В начале нулевых проект стал частью поп-культуры: ссылки на премию попадали в сценарии сериалов, цитаты — в газетные колонки, на нее ссылались университетские лекции по риск-менеджменту. Каждый новый мейнстримный виток приносил и прилив скепсиса. Появлялись исследования о том, что медиа переоценивают «глупость» и недооценивают контекст. В ответ на сайте усилили критерий «добровольности»: если ключевую роль играл случай, злой умысел другого человека или техническая неисправность, номинация отклонялась.
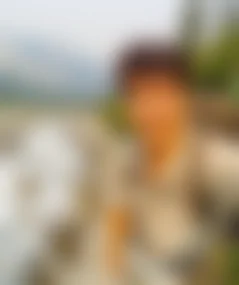

Джон Аллен Чау (1991–2018) — американский христианский миссионер, погибший на Северном Сентинельском острове от рук аборигенов, после того как незаконно высадился на острове и пытался обратить местных жителей в христианство
Public Domain (2)
Гарри Хой (1955–1993) — адвокат из Торонто, демонстировал стражерам прочность окон в небоскребе и выпал вместе со стеклом
А еще это история о том, как ранний интернет породил новые формы коллективного сторителлинга. В нем смешались анекдоты и репортажи, трагедия и комедия, так что понадобился куратор, который отделит байку от факта. Премия Дарвина оказалась на этом стыке: между смехом и документом, между легкой историей и напоминанием о том, что законы физики не делают скидок.
Сегодня в архиве тысячи заметок, книги продолжают переиздаваться, а дискуссии о корректности формата не утихают. Но главный урок остается тем же, что и тридцать лет назад: есть вещи, которые лучше не проверять на себе.