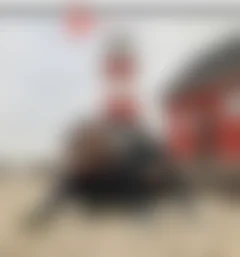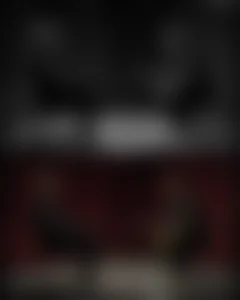Писатель Борис Минаев рассказал про встречу нового 1983 года. И кажется, поменяй в этой истории год — ничего не изменится. Тот же город, те же мысли, тот же снег.

Приближался Новый 1983 год, мы пригласили некоторых гостей, и пора было делать разные закупки.
29 декабря на работе дали заказ: зеленый горошек (пол-литровая банка), гречка, венгерская курица, триста граммов сухой колбасы.
— Курам на смех, — сказала Ася. — А еще орган ЦК ВЛКСМ называется. Ладно, курицу, положим, я запеку в духовке. Нужно только мед и горчицу, остальное на рынке купишь.
— На рынке? — удивился я.
— Ну да, на рынке, на рынке, а что тут непонятного?
У меня была хозяйственная сумка «из парашютного шелка», как сказал мне человек, который мне ее продавал.
— Двадцать килограммов выдерживает легко! — гордо сказал мне этот человек.
Короче, сумку я запихнул в карман пальто и после работы, 30 декабря, пошел на Бутырский рынок.
Рынок, в сущности, уже закрывался, но всё, что мне было нужно, я взять успел.
Взял, во-первых, пять кило картошки деревенской.
— Рассыпчатая? — зачем-то спросил я у пьяненького дяденьки за прилавком. Он тут к шести вечера оставался уже один в картофельном ряду и был мне страшно рад.
— Рассыпчатая нужна? Сейчас! — ответил он и стал загребать из мешка розовую, как щеки девушки на морозе, картошку.
Я прям залюбовался.
Вся она была такая крепкая, свежая, приятная на вид.
— Куда, куда вы столько! — закричал я, посмотрев на весы. — Мне же еще на «Краснопресненскую» ехать!
Мужик, вздохнув, отсыпал немного картошки и скостил десять копеек.
— На здоровьичко! — с чувством сказал он.
Потом я долго выбирал квашеную капусту.
Капуста была кислая, сладкая, кисло-сладкая, кисло-кисло сладкая, с морковью и без, а также с ягодами клюквы.
— Мне вот этой, с ягодами клюквы, — сказал я после некоторого раздумья.
— Сок лить? — спросила меня женщина в павловопосадском платке, ну просто какая-то живая иллюстрация к книге «Русский народ. Его обычаи, обряды, суеверия и поэзия».
— Что? — не понял я.
— Сок лить? — еще раз терпеливо спросила она.
— А!.. Ну да, лейте, лейте.
Потом я купил две крупные моркови и две крупные свеклы.
Что еще брать из полезного, я не знал и пошел выбирать сало.
Тут было «с мяском и без мяска», главная проблема была в другом — отрезать маленькие куски не хотели ни в какую, и мне пришлось взять кусок примерно на килограмм.
Все это я уложил сверху картошки.
Потом еще укроп, кинза, зеленый лук по каким-то несусветным ценам и мандарины.
Была там еще и рыба: белая, красная, копченая и соленая, но мне это тогда было не по карману.
Выйдя с Бутырского рынка, я долго стоял и смотрел на пылающие в ночи буквы на кинотеатре «Прага».
Вдруг стало очень хорошо.
…Глядя на себя как бы со стороны, я вдруг увидел (наблюдение за наблюдающим) молодого человека в пальто с меховой подкладкой, подкладка, правда, уже немного вытерлась, с одной перчаткой в кармане, вторую он потерял, в старой шапке-ушанке, которой было, как Ася говорила всегда, «уже лет сто», но необыкновенно счастливого.
Счастье его заключалось в том…
Впрочем, вот тут я остановился, потому что причины счастья мне и самому были не до конца ясны.
Это был редкий момент, и я захотел его продлить. Посмотрев в небо, я не увидел звезд. Вместо них мерцали ночным светом голубые московские фонари.
— Мужик! — сказал мне кто-то и немного толкнул плечом в темноте. — Полтинник дай?
Я поставил сумку на снег и полез за кошельком.
— Да ладно, не жидись! — сказал тот же голос.
Стало неприятно, но я вынул двадцать копеек и сунул в огромную мокрую ладонь, протянутую ко мне.
— Куришь?
— Нет, не курю, — скорбно сказал я и пошел к подземному переходу.
Счастье куда-то сразу улетучилось, я грустно ехал среди таких же грустных людей в троллейбусе к «Новослободской» и думал про себя о том, как же все это непрочно: вот эти летучие состояния души.
А жаль.
Сумка оттягивала руку, в метро я поставил ее между ног, вагон тормознул, сок пролился, несмотря на то, что капуста была в пакете.
На картошку.
— Ну какая ж ты балда, — сказала Ася. — Картошку мокрую всю привез. Ну ладно, это не страшно. А сала зачем столько? С ума, что ли, сошел?
…Таким образом, 31 декабря Ася поставила на стол: курицу, запеченную в духовке, морковь с чесноком, свеклу с грецкими орехами, картошку отварную рыночную, горячую, посыпанную укропом, тонко нарезанное сало, салат из печени трески (банку которой мы хранили, кажется, с лета), колбасу и сыр.
Да, еще селедку, точное происхождение которой я не помню.
Вроде всё.
Часов в десять начали приходить гости.
В этот момент (когда раздавался первый звонок в дверь) тревога в моей душе достигала своего апогея, одновременно переходя в страшное возбуждение.
Почему я так волновался?
Дело в том, что само сидение за праздничным столом не было, скажем так, явлением для нас привычным, тем более будничным. (В кафе и рестораны люди ходили по совершенно другим поводам, это был не «годовой», а, скажем так, «жизненный цикл»: за исключением любовного свидания, это могли быть поминки, свадьба, защита диссертации, юбилей дедушки, который с таким размахом тоже мог отмечаться всего лишь раз в жизни, ну, в общем, что-то такое.)
Встречаться-то встречались, заходили друг к другу порой и без звонка, сидели на кухне иногда до утра, но вот таких вот в полном смысле этого слова праздников было немного.
И встретить их было нужно, как говорится, во всеоружии.
Как ни странно, первым решался вопрос пространства, то есть посадочных мест. Столы еще можно было как-то сдвинуть друг к другу (например, у нас был раскладной стол, он, собственно, и сейчас есть), переносился в комнату и кухонный стол, добавлялся к нему журнальный, ну и прочее. Да даже иногда и просто на кухне, где было восемь квадратных метров, мы умудрялись усаживать человек 10–12! (В некоторых советских фильмах мы видим такую удивительную картину, как длинный стол, наверняка составной, который из квартиры выходит через дверь аж на лестничную клетку. Такое могло быть, конечно, например, на домашней свадьбе, но все же своими глазами я этого ни разу не видел.)
Стол, конечно, в любом случае накрывался скатертью (скатертями).
…Другое дело — посадочные места.
Когда мы жили на Аргуновской улице и к нам приходили гости, Ася посылала меня к соседям за стульями, табуретками и прочим. Волнуясь и переживая из-за вторжения в чужую жизнь, я звонил в ближайшую дверь (поначалу долго стоял и думал в какую) и просил у них одолжить на вечер табуретки. На табуретки мы еще клали какую-то доску, отмытую и отчищенную, и как-то все гости помещались.
В 90-е у нас появились какие-то хлипкие раскладные стулья, и ходить к соседям я наконец перестал.
Соседей на Аргуновской я помню прекрасно. Это была крепкая московская семья, советский «средний класс», там росли мальчик и девочка. Когда я в первый раз попросил у них табуретки, мне их дали, наверное, с какой-то мыслью о дальнейшем соседском общении или даже дружбе, но я человек замкнутый, спасибо, до свидания, завтра принесу, и в следующие разы табуретки давали уже с некоторым разочарованием… и все же давали. Безотказно.
Теперь сервировка стола.
Посуда, конечно, могла быть разномастной — большие тарелки перемежались с обычными, ножи и вилки могли быть даже и серебряными (скорее, почерневшими от времени, но все равно благородного вида) из бабушкиного наследства, а могли быть и простыми общепитовскими, кому что достанется. Вино пили из тонкостенных стаканов, чашек, кружек, всё сразу, потом появились подарочные хрустальные бокальчики чешского стекла, шесть штук, но их во время мытья посуды обязательно разбивали, и демократия победила.
…Советская домашняя кухня и советский алкоголь — это, конечно, отдельная тема. Ей можно посвятить тома.
Ликер «Адвокат» из водки, взбитых яичных белков, сливок и сахара соседствовал на столе с наливкой из разбавленного спирта*, добытого на маминой работе в химическом институте, и выжатых через марлю ягод; в водку «Столичную» можно было положить скорлупу от грецких орехов или лимонную корку, высушенную на батарее, но это на любителя, конечно. С водкой вообще в те годы отношения у меня как-то не сложились, вернее, сложились, но не сразу.
Никто из нас тогда не пил водку, это был слишком «народный напиток». Для того, чтобы пить водку, нужно было быть уже старым, много пожившим человеком, прошедшим ссылку, лагеря, психлечебницу и так далее.
Вино тогда продавали очень разного качества, скажем так, поэтому мы часто варили глинтвейн — две бутылки красного, лимон, сахар, гвоздика и корица. Однажды я никак не мог открыть пачку сахара, стоя над кастрюлей, и тогда художник Свен Гундлах взял у меня из рук эту пачку и сказал: «Все гораздо проще». И просто опустил всю пачку, вместе с оберточной бумагой, в кипящую кастрюлю.
Впрочем, это уже анекдот, но глинтвейн действительно выручал, особенно зимой или поздней осенью.
Хотя вино, конечно, пили, как без этого — если в служебном буфете на улице Правды вдруг продавали хванчкару или киндзмараули, мгновенно выстраивалась очередь. И это вино прятали подальше, то есть оставляли «для дня рождения или Нового года».
Другие грузинские вина (саперави, мукузани, ну и белое — цинандали, гурджаани) можно было купить и в обычном магазине, вместе с «Арбатским», которое было практически всегда, болгарским или алжирским. Но это опять же… если постоять.
Молдавский, грузинский или армянский коньяк — это было дорого, и пили его строго после трапезы, вместе с фруктами и десертом, на дижестив.
В московских центральных гастрономах мог стоять и нормальный французский бренди «Наполеон» по цене от пятнадцати до двадцати рублей, если я не ошибаюсь, но я не помню НИ ОДНОГО раза, чтобы он стоял на столе. Ядовито-зеленый ликер «Шартрез», джин «Капитанский» Калужского винзавода и прочие изыски могли, конечно, случайно появиться «от гостей», но эффект от них был не очень хорош, рисковали немногие.
Ну, а как же портвейн? — спросите вы. Вот эти знаменитые «три топора» и прочее?
Не знаю, не пробовал, судить не берусь.
К праздничной закуске он совершенно не подходил.
…Придумывали тогда, конечно, много чего — были вещи, от которых я просто умирал, в прямом и переносном смысле, мог съесть буквально гору, как, например, салат из трески горячего копчения, лука, яйца и вареной картошки. От домашнего лобио тоже — тут просто требовалась банка фасоли (а она в продаже все-таки имелась), побольше специй, орехов и зелени. Все просто. Но были вещи и посложнее, Ася этим не увлекалась, но я видел своими глазами и даже ел в гостях «красную икру» из моркови и плавленых сырков, «сладкую колбасу» из вареной сгущенки и кукурузных хлопьев, да чего только я не ел тогда, чего сейчас днем с огнем не найдешь.
Да и надо ли искать?
Если в доме не было «почти ничего», а гость уже выдвигался, варили рис, открывали банку лосося или сайры, резали репчатый лук и вареное яйцо и размешивали с майонезом.
Это была абсолютно безотказная вещь.
Но, конечно, праздничный стол не мог быть без пирогов. Накормить толпу народа без пирогов было вообще невозможно. С капустой, рисом и яйцом, мясным фаршем, курицей и жареным луком, из дрожжевого и слоеного теста, выносимый на огромном блюде (наверное, опять же бабушкином), в окружении сверкающих рюмок и графинов, хохочущих и кричащих гостей, пахнущий на весь подъезд, пирог был королем стола, но и в целом вся обстановка была напоена ощущением какой-то роскоши, хотя ее-то вроде как раз и не было…
Может быть, лучше всех это ощущение незамысловатого, немного горького, но счастливого все же праздника передал Геннадий Шпаликов:
Влетел на свет осенний жук,
В стекло ударился, как птица,
Да здравствуют дома, где нас сегодня ждут!
Я счастлив собираться, торопиться.
Там на столе грибы и пироги,
Серебряные рюмки и настойки,
Ударит час, и трезвости враги
Придут сюда для дружеской попойки.
…Воспоминаний сомкнуты ряды,
Они стоят, готовые к атаке,
И вот уж Патриаршие пруды
Идут ко мне в осеннем полумраке.
О собеседник подневольный мой,
Я, как и ты, сегодня подневолен,
Ты невпопад кивай мне головой,
И я растроган буду и доволен.
Как же все-таки прошла встреча того 1983 года?
Стали провожать старый 1982-й, как раз недавно умер Брежнев, в ноябре, и к власти пришел Андропов.
Поговорили и об этом.
— Знаете, — сказал Фурман. — Это был такой год… грозный, что ли. Но мне кажется, гроза прошла стороной.
Все помолчали, не зная, что сказать.
— Что ты имеешь в виду? — решил уточнить я.
— Это не имеет значения, — отмахнулся Фурман.
Я помню, что в тот вечер мы замечательно поговорили, причем каждый говорил о чем-то своем, но все это сливалось в какой-то ровный и гармоничный поток. Вайс смешно рассказывал о нравах начальства в своей газете, Фурман — о том, какое это дзен-буддистское в сущности занятие, переносить магнитофоны (он работал тогда на курсах иностранных языков), потом сказал вообще пару очень умных вещей — про какую-то растерянность перед жизнью, которая все-таки лучше уверенности, и про то, что каждый год выпавший вдруг снег закрывает наши «внутренние ямы» (или что-то в этом роде), Вайс уважительно крякнул, ему уже больше было нельзя, и Катя попросила его «немного полежать», он с удовольствием снял тапочки, принесенные из дома, и растянулся на нашей большой кровати. Были и люди, которые весь вечер молчали, например Якименко. Он просто улыбался своей таинственной улыбкой.
Вообще, водку пил только Вайс (вино ему было нельзя по состоянию здоровья), а все остальные после сухого белого как-то быстро протрезвели и после двенадцати стало совсем хорошо, светло и как-то спокойно.
Единственное, что немного омрачило общую картину, — мы пропустили бой курантов.
— Ну вы даете! — возмущалась Катя. — А еще журналисты!
— Старик, у тебя нет чувства времени! — веско сказал Вайс.
Я был не против. Нет так нет.
Когда гости разошлись, я вышел на улицу, просто так, подышать воздухом.
Москва-река была подо льдом, но все равно в темноте от нее как будто исходило холодное ровное дыхание, вдалеке горела звезда на шпиле высотки на площади Восстания. Я зачем-то слепил снежок и швырнул туда, вниз, на Москва-реку, спугнув какую-то птицу.
Пройдя мимо Белого дома, я вышел на мост.
Сырой московский воздух входил в мои легкие как тяжелый, пьянящий и в то же время невыносимо грустный раствор.
…Но в целом все было хорошо.