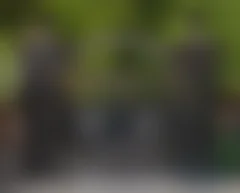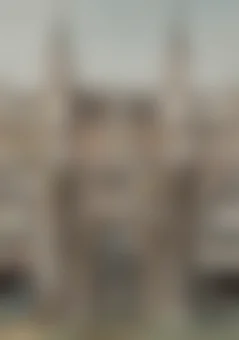Как феномен еда из печи переживала свой расцвет всего три века. Но этого оказалось достаточно, чтобы заслужить место в мировой истории. Печи дивились иностранцы, ее уважали цари, она стала синонимом русской кухни. В общем, не зря говорили: «Печка парит, печка жарит, печка душу бережет».
Русская печь — уникальный феномен. Многочасовое томление и температурный режим придают блюдам ни с чем не сравнимый самобытный вкус, даже шарм. Но есть два мифа, которые превозносят ее, и при этом дают совершенно неверное представление. Во-первых: о том, что она была чуть ли не всегда: во время óнo на ней катался Емеля и лежал Илья Муромец. Во-вторых, что на Руси только в печи и готовили, а остальные способы были вынужденными (нет ее под рукой!).

Public Domain
Быстро разберемся со вторым мифом. Способов готовки была уйма, и многие из них вообще не предусматривали наличие печи: жарка на сковороде и вертеле, варка на огне и паром, припускание и даже фритюр (он назывался «пряжение»). Кроме того, хозяйки использовали множество масел: конопляное, маковое, ореховое — а для печи они, в общем-то, не нужны.
С первым же мифом сложнее. На самом деле русская печь в привычном нам виде появилась в Новое время, а уже в XIX веке стала восприниматься как анахронизм. Но это не значит, что она какой-то новодел. Она пережила долгую и интересную эволюцию.
Судя по всему, до VIII века печи как таковой в домах у славян не было.
Вместо нее был очаг на полу. Иногда в углублении, иногда — на небольшом возвышении. При этом существовали специальные хлебные печи — довольно оригинальное приспособление, но оно находилось снаружи. В склоне холма в глине вырывали яму, где жгли дрова, затем угли вытаскивали, внутрь сажали хлеб, а устье закладывали камнями и глиной.
Позже, в VIII–XII веках, появились домашние печи, но они были довольно примитивными и напоминали подобные приспособления у многих народов Европы. Овальные и глинобитные, они имели отверстие сверху — под горшок. То есть готовили на них, как на плите. Позже печь стала каменной, хотя принципиально не менялась.


Public Domain (2)
В XIII веке на Руси появился новый тип жилища: строили два сруба и соединяли сенями. Печь, поставленная у входа, создавала тепловой барьер. Но надо понимать, что до XV–XVI веков она везде топилась по-черному. Изба была закопчена изнутри, сажу со стен приходилось сметать метлой. Стояла тяжелая духота, даже в домах обеспеченных горожан, что отмечают иноземные путешественники. Флорентийский аристократ Рафаэль Барберини в 1565 году писал:
В то же время иностранцы поняли уникальную многофункциональность русской печи: в ней готовят, в ней пекут хлеб, а еще она долго держит тепло, и на ней можно спать.
Неудивительно, что печь иногда занимала четверть избы — поистине центр домашней вселенной.
В XVI–XVII веках уже отчетливо видно разделение между бедными и богатыми. У зажиточных появляются печи с трубами, семьи с достатком предпочитают строить специальные печки для кулинарии и хлебопечения — во дворе или в отдельном помещении. Века до XVIII классическая русская печь — с трубой, довольно сложная с инженерной точки зрения (в общем, настоящее загляденье), — это прерогатива обеспеченных горожан.

Константин Чернышёв, 1850-е
Public Domain
Любопытно, что важную роль в формировании известной нам печки сыграл глобализм. Первые образцы появились в столице, на пограничье и в домах иностранцев. Судя по всему, это не изобретение какого-то отдельного народа, а тенденция всей Северо-Западной Европы. Просто у нас к ней проявили исключительный интерес и развили идею (особенно в сторону универсальности). При Петре I, в 1718-м, вышел первый указ, запрещавший строить курные избы в Санкт-Петербурге, теперь их дозволялось отапливать только по-белому. Спустя 4 года такое же правило установили для Москвы.
XVIII век — золотая эпоха русской печи, она приобрела свой канонический вид, а наших мастеров стали приглашать в Европу для обмена опытом.
Знаний об этом хитром ремесле скопилось столько, что позже, в 1867-м, хватило на целый научный труд — «Теоретические основы печного искусства». Печь в том виде, в каком мы ее знаем, стала массовой (правда, в городах и зажиточных селах)… но так и не превратилась в абсолют русской кухни. Но почему?
К моменту, когда сложилась национальная «высокая кулинария», печка уже начала терять актуальность. Не крестьяне двигают прогресс в поварском деле, а богатые и, по большей части, образованные горожане. Многообразие родилось из глобальных тенденций.


«Русская печка»
Вера Ушакова, 1989
Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых
Книга «Домашний стол: как варить, печь и жарить вкусно и дешево», 1894
Public Domain
После Нового времени (и до сих пор) страны активно заимствуют друг у друга блюда, приноравливают к своим техникам и выдают за свои, исконные. Так было в русской кухне, во французской, да, в общем-то, любой европейской. Печь оказалась слишком специфичной для этого. Тем более, напомним, на Руси издревле готовили очень по-разному: от вертела до собственного фритюра. Народ продолжал любить свои простые и исконные блюда. А элиты в XIX веке уже вовсю ставили для обогрева голландские печи с плитами для готовки.
В книге «Домашний стол: как варить, печь и жарить вкусно и дешево» конца XIX века указано:
«Обыкновенная русская печь, обладая некоторым удобством, имеет очень много недостатков. <…> Но в печке можно только хорошо печь и парить, а не варить и жарить. Все соуса и большинство кушаний в печке почти невозможно приготовить сколько-нибудь сносно».
Жалоба на то, что в русской печи не получается делать соусы, — очень показательна. Миф о любой национальной кухне разбивается о маленькие, но острые скалы универсализации. Русская кулинария стала частью европейской, многое переняла, переварила и превратила в нечто новое и удивительное. Но печь здесь проиграла простой плите. Тем не менее она осталась в народе — в иных деревнях в ней готовят до сих пор, особенно по праздникам. Да и мода на нее возвращается. В Москве, например, есть несколько ресторанов с настоящей печью, и еда в ней получается довольно аутентичной.
Личный опыт
Концепт-шеф ресторана «Северяне» Георгий Троян — о том, как осваивал печь. Настоящая история отношений, где есть все: от первого знакомства, последующих сложностей с притиркой характеров, смирением, принятием и в финале — с абсолютной взаимной любовью.
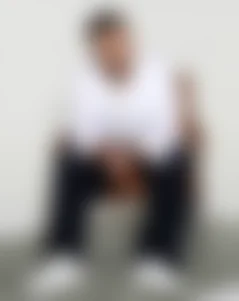
Пресс-служба ресторана «Северяне»
«Когда я пришел в „Северяне“, у меня не было ничего, кроме печи: ни плит, ни духового шкафа. Я не понимал, как мне работать. Когда я переносил свои заготовки в печь, все превращалось в золу. Абсолютно все. Я как будто свою карьеру сжигал в этой печи, просто не понимал, как контролируется температура. Конечно, я начал консультироваться с печниками, с коллегами, но в те года ни у кого не стояла печь в ресторане, и я все равно остался один на один с ней. Говорят, что я упертый, но северянская печь оказалась еще упертее.
Первое, что мне помогло, — это понять и принять ритмы печи. Какие продукты использовать, когда она раскалена (секунда промедления стоила продукту жизни), а что оставить на ночь на томление. Например, мы изначально томили творог для сырников, оставляя глиняные кувшины с молоком на ночь. Потом я стал экспериментировать со сменой положения чугунных сковородок внутри самой печи. Потом мы стали подбирать дрова по сезону. Потом я стал отмечать, что кто-то из персонала лучше или хуже подходит к работе с печью, — она как будто принимала или не принимала их.
В конце концов, я поехал на стажировку к шведу Никласу Экстеду, и он помог мне разрешить пару технических проблем. В итоге я смирился или примирился: печь как была испокон веков главной в доме, так и осталась, даже если на дворе XXI век. Живое сердце со своим нравом».
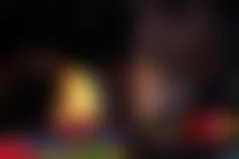
Печь в ресторане «Северяне»
Пресс-служба ресторана «Северяне»