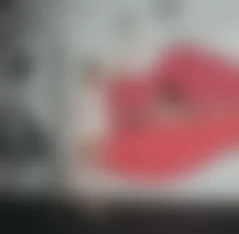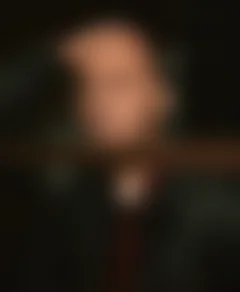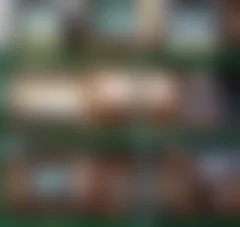Никита Высоцкий — артист, режиссер, сценарист и младший сын великого поэта. В разговоре с главным редактором ЧТИВА Сергеем Минаевым он рассуждает о своей фамилии — одновременно регалии и бремени — и о том, как она отзывается в вечности.
Сергей Минаев: Я зайду с неожиданной стороны. Когда мы снимали «Первый номер» и с группой обсуждали сценарий, возник вопрос: кого герой должен поставить на обложку своего журнала? Понятно, что он действует вопреки, а персонаж должен не олицетворять момент, а рифмоваться с вечностью. Все спрашивают: «Ну и кто это может быть?» Я говорю: «Высоцкий!» Ребятам в группе 25–30 лет, и они соглашаются: «Да, это круто!» Вот с чем вы это связываете? Уже 45 лет человека с нами нет, а его имя до сих пор отзывается в разных поколениях.
Никита Высоцкий: Я помню вашу картину и этот эпизод. Я внутри ситуации и вижу, что уже была такая критическая точка, где-то в начале нулевых. Что был тогда Высоцкий? Ну, у бабушки на антресоли лежат какие-то пластинки, хрипит, расстроенная гитара. Так он воспринимался у молодежи. И возникла идея сделать художественный фильм о Высоцком — появился «Спасибо, что живой». И, как ни странно, это кино снова повернуло молодежь к нему. Я это фиксирую и в музее, и на могиле, и в общении, вижу во всевозможных опросах, связанных с кино. А сейчас снова идет спад интереса.
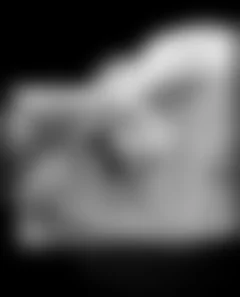
Вы чувствуете его?
Я чувствую спад и понимаю, что интерес к Высоцкому волнообразный. И я уже несколько таких волн, приливов и отливов, пережил. Но я не могу понять закономерности. Когда наступает спад, я не то чтобы огорчаюсь. Главное в другом. Когда волна уходит, то, как в море, обнажается далеко не самое красивое: с бутылками, с мусором вылезает много дряни и о Высоцком, и о его времени, о его близких, о творчестве. А потом, когда волна приходит, вдруг, наоборот, возникает интерес к его поэзии. Не к тому, кто с кем спал. Интерес к Таганскому театру — еще тому, интерес ко времени, где Тарковский, молодой Герман и так далее. Вот сейчас, мне кажется, откатывается волна.
У меня ощущение, что когда накрывает тоска по-настоящему, когда все вокруг — целлофан, упаковка, а внутри — пустота, тогда и всплывает Высоцкий. Потому что, оказывается, можно по-другому: доступно, легко, по-настоящему.
Я задавал себе вопрос: почему Высоцкий в разное время созвучен разным поколениям? Пока я готовился к интервью, прочитал книгу Марины Влади — я знаю, вы не любите эту книгу, и понимаю почему. В ней я нашел неожиданный (по крайней мере, для себя) ответ. В нем самом есть часть того, что называется «русский культурный код». Марина пишет: он везде говорил о том, что не мыслит себя без России. Мне кажется, люди слышат это, когда Высоцкий поет. Это не надо объяснять. Есть вещи на кончиках пальцев.
Я согласен. Русский код, если мы один и тот же смысл в это вкладываем. Он чувствовал что-то такое… На самом деле, я дико не люблю, скажем, людей, которые собираются на кладбище 25 июля. Они пьют, залезают на могилу. Я еще с детства их невзлюбил — когда был маленький, и они там хозяйничали.
Но мне многие говорят: «Никит, ты не понимаешь. Он их зацепил, он их вскрыл. Они, может быть, не умеют себя вести — но это по-настоящему».
Давайте поговорим про вашу фамилию. Вы ее не выбирали. Вы родились Высоцким. Многие, наверное, думают, что она все двери открывала. А мне почему-то кажется, что были двери, в которые вы или заходить не хотели, или просто не могли с этой фамилией зайти.
Вы знаете, я понимаю, когда люди говорят, что моя фамилия изменила мою жизнь. Абсолютно правильно. Особенно после смерти отца, конечно.
Условно говоря, если бы вы захотели петь, наверняка бы не смогли.
Во-первых, не смог бы. Во-вторых — не захотел бы, скорее всего. Но самое главное — обладать такой фамилией значит сталкиваться с огромным количеством неудобств. Потому что ты не совсем принадлежишь себе.
Ну, допустим, я выхожу на сцену. Я когда-то был артистом. В «Современнике» Никита Высоцкий, люди купили билеты. Зал полный — благодаря чему? Благодаря твоему отцу, твоей фамилии. Ты еще ничего не сделал.
Но, с другой стороны, потом с тебя начинают за это взыскивать. Если ты им по каким-то причинам не пришелся по вкусу, они не просто тебя не любят. Они берут в следующий раз тухлые помидоры и начинают в тебя кидать. Грубо говоря, вот эта планка, по которой тебя из-за фамилии меряют, она тебе не по росту. Ну как сказать? Высоцкого с кем ни сравнивай — он круче. Я имею в виду своего отца.
А вот его, допустим, сравнивают с 17-летним парнем. Того Высоцкого, которого похоронили год назад. Я ловил себя на том, что начинаю играть в сына Высоцкого — чтобы не обидели, чтобы не разочаровать. Поверьте мне, это очень сложно в 17 лет.
Но у меня были хорошие учителя. Был совершенно удивительный парень — сын Юрия Петровича Любимова от первого брака. Никита.
Он как-то ко мне подошел и по-доброму посмотрел. Мне было, ну 18–19 лет. Он говорит: «Никита, ты ходишь гоголем, а Гоголем не являешься!» Я чуть не заплакал.
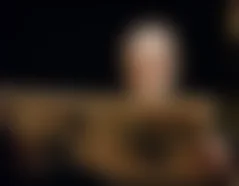
Шикарная фраза какая!
Да. Он мне как зеркало поставил. Я вдруг понял очень простую вещь: дело не в том, что не надо бояться. Но надо разглядеть: а я-то кто? То есть надо что-то понять про себя, а не про то, как соответствовать общественному интересу.
Это дико тяжело.
Тяжело. Но мне повезло не только с Никитой. У меня были замечательные преподы. Люди, которые меня убедили, что не надо играть сына Высоцкого. Просто не надо. Ты и так уже его сын.
А если отмотать пленку, например, на 1978 год. Вам 15 лет. С кем вы общаетесь, какая у вас компания? Это мажоры московские?
Нет. Я немножко был знаком с дочерьми Вени Смехова, с Аликой и с Леной.
Но это была московская золотая молодежь?
Можно и так сказать. Пусть они сами за себя скажут. Когда я бывал в их компаниях, мне казалось, что да. Помню, на дне рождения у Алики (ей 12 или 13 лет) парень с гитарой пел что-то на английском языке. Я потом понял, что это был Леша Паперный. А я пришел в школьной форме с баскетбольной тренировки. Мне было ужасно неловко.
А они модные все сидят?
Они не просто модные, они свободные, легкие. Алика же потрясающе поет. Она и сейчас поет. Тогда пела, танцевала, цыганские юбки какие-то надевала. А я такой вот мрачный, с тренировки, с какой-то кислой харей и метр девяносто (самый заметный из всех).
Я не так много с ними общался. А моя компания была очень простая. Я был знаком с Женей Миттой, скажем. Я не ездил никуда. Отец говорил, что, может, надо. Может, на юг. Но мама не хотела, да и он не хотел. Он сам был не тусовый.
Ну как не тусовый? Я какие воспоминания ни возьму, все время какая-то тусовка, они сидят на чьей-то кухне.
Театральная, поэтическая, как сказать?
Это квартирник. Я понимаю, о чем вы говорите. Это не та тусовка, как мы сейчас ее понимаем.
У него, допустим, друзья последних лет: Валера Янклович (он был администратором отца, импресарио, в прошлом артист), Володя Шехтман (двоюродный брат Севы Абдулова). Сам Сева. Вадим Туманов. Игорь Годяев (каратист, медбрат, человек без высшего образования). Вот была его компания. Никакого отношения к тусовке.
Не звезды кино.
Да.
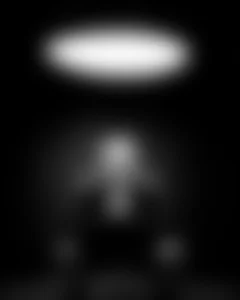
Вам в школе завидовали?
Нет. Вот в том-то и дело.
Как это возможно?
Не знаю, как объяснить. Вот он приезжает к нашему дому. У него иностранная машина.
На мерседесе.
Да.
Это как сейчас бы я приехал к вам на летающей тарелке.
Да. Собирается толпа, начинают смотреть, разглядывать. Мы выходим, я с отцом сажусь в машину. Они расходятся, не потому что испугались, а потому что действительно неловко смотреть. Отец спрашивает: «Это твои друзья?» Там мальчишки. «Давай мы их куда-нибудь прокатим?» Они говорят: «Нет-нет, не надо».
А отец в школу приходил когда-нибудь?
Никогда. Причем у меня был учитель по автоделу, и он хотел с ним познакомиться. Он мне поставил шесть двоек. Ставя седьмую, говорит: «Так, Высоцкий, двоечка! Папу!» Я понимал, что отец не придет. Я пытался: «Пап, ну вот такая ситуация». Он отвечает: «Нет, даже не думай, разбирайся сам, решай сам!»
А когда плохо было, когда я заболел, или у брата были проблемы, он вмешивался. Даже мама просила: «Не надо, они привыкнут, что есть папа, который возьмет за руку, поведет». Он говорил: «Надо!»
То есть, несмотря на плотный график, он находил время, чтобы вмешаться и помочь?
Он вообще был в этом смысле отзывчивый не только к нам. Тут не в том дело, что я какой-то любимчик. Нет. Он таким человеком был — он из тех, к кому всегда можно обратиться.
Однажды произошла история. Был такой вертолетчик, его тоже звали Володя. Случилась авария, он упал, его списали. А он ничего больше не умеет, только летать. А у него травма позвоночника. Он говорил: «Я вставал с дикой болью под „Чуть помедленнее, кони“». Он любил Высоцкого. И вот он вылечился. Пришел к Театру на Таганке. Несколько дней отца не было в театре, а он все равно дежурил. Когда наконец он его увидел, подошел: «Такая у меня история, я летчик, я вас очень люблю, я хочу летать». Что делает отец? Вот что бы сделал я? Я бы сказал: «Братан, ну, надо куда-то пойти, я не знаю, что-то сделать». А отец позвонил министру гражданской авиации и настоял.
Летчику сделали повторную медэкспертизу после звонка сверху. Естественно, пропустили — и он летал еще много лет после этого. Уже отца не было в живых, а он летал. Что это такое? Я не знаю. Отец, что называется, по воде не ходил.
Он был человек с проблемами, далеко не всегда был прав (я это видел). Он мог быть очень разным. Почему он это делал, почему помогал? Я не знаю, мне трудно сказать.

Вот есть же разные вещи, вернее — разные свидетельства. У него на «Мелодии» не выходит пластинка. Высоцкий приходит к какому-то замминистра культуры, тот говорит: «Да, сейчас выйдет!» И снова не выходит.
То есть ему какой-то запрет ставили. Его не звали на телевидение. С другой стороны, у него мерседес, он выезжает в Париж, в Нью-Йорк. Вот как это все в одном стакане было? Понимаете, о чем я? С одной стороны, статус запрещенного, а с другой — он может позвонить человеку и аттестовать повторную медкомиссию.
Да. А главное, сейчас это дает возможность очень многим говорить: «Не делайте из него страдальца, он был мажор».
Сто процентов. У него было два мерседеса и так далее.
Опять же, у меня есть свое мнение. Во-первых, он, конечно, был любим. Когда говорят «любим народом», мы отвечаем: «Наверное, народом — да. А вот плохими чиновниками, которые запрещали, не любим». Дело в том, что его любили очень разные люди. Особенно ветераны. Они к нему относились очень хорошо. Эти люди были в милиции, были в партии.
В КГБ.
Везде. И это очень важно. Он же долго был невыездной. С Мариной Влади они уже пять лет были вместе, пока ему разрешили выехать.
То есть не сказать, что Высоцкому прям все было можно. Но человеку, которому надо было принять решение не выпустить Высоцкого, нужно было сто раз подумать. И брать на себя ответственность. Не любить Высоцкого тоже было небезопасно, так скажем.
Другой момент — люди не знали, к кому его отнести. Его нельзя назвать диссидентом.
Он им и не был ведь, да?
Не был. Его нельзя было назвать врагом, если он написал «На братских могилах» или «Песню о звездах». Какой же он враг? Его нельзя было назвать поэтом, потому что даже поэты Евтушенко, Вознесенский не считали его своим. Его нельзя было назвать актером, потому что это была не просто актерская популярность. Он оказался вне этих рамок, которые ставило общество. Просто из-за своей какой-то особенности.
Где можно было не пропустить, его не пропускали. Фильмы с его участием не шли по телевидению.
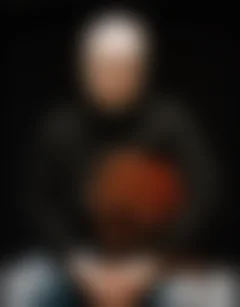
«Место встречи» — это же суперважный фильм для советской власти, на мой взгляд.
Этот пустили. Со скрипом, но тем не менее действительно были люди, которые за него вписывались. Но он пришел на «Кинопанораму» в связи с выходом этого фильма и записал то, что сейчас называется «Монолог». Он поет там целый концерт. Было сказано: Высоцкого в «Кинопанораме» не будет. Всё!
Почему? Есть этому объяснение?
«Если я не понимаю, значит плохой. Значит, может, враг».
На всякий случай.
У отца было положение такое — с одной стороны, очень понятное. Скажи «Высоцкий», и все всё понимали. Неважно, актер театра, еще кто-то. Высоцкий! А людям надо было принимать конкретные решения. И в какой-то момент они решали: «Нет». Очень часто говорили «нет» коллеги, как ни странно. Например, как-то отец должен был сниматься в фильме «Земля Санникова». Подписал договор, что будет играть, и написал туда две песни — «Белое безмолвие» и «Кони привередливые». У него уже билет был. Но ему сказали: «Вы знаете, нет, вы не поедете».
А кто сказал?
Ему позвонили со студии, просто из группы. Состоялось заседание. Сказали: «Высоцкий ненадежный, он сорвет вам график».
Почему ненадежный? Мог запить?
Ну… да. Там было две фамилии. Оба народные артисты СССР. Я не хочу упоминать, потому что они очень хорошие актеры кроме всего прочего. Но это коллеги, которые сказали: «Не надо». И это была не зависть, а искреннее чувство: «Нет, он ненадежный. Нет, нельзя».
Я повторюсь, что, с одной стороны, ему что-то запрещали, а с другой стороны — очень многое разрешалось, то, что не позволялось другим. Многие не понимали, как к нему относиться.
Показательный в этом смысле человек — Фурцева. Министр культуры, от которой зависело, выйдут пластинки или нет, будет он сниматься или нет. Кто-то пришел заступаться за Высоцкого. Она сказала: «Вы пришли заступаться за этого антисоветчика. Это враг, который написал одну великую песню». Ее спросили: «Какую?» Вы знаете, что она ответила?
Нет.
«Штрафные батальоны». «Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час пехоте передышка».
Почему она, интересно, выбрала эту песню?
А потому что… Она же видела, она жила тогда. Она про этих штрафников знает. Не могла против себя идти.
Слушайте, мы упомянули Марину Влади. Какие у вас с ней отношения были? Она писала, что все время хотела с вами и с братом общаться.
Отец пробовал несколько раз, и она искренне пыталась. Она человек обаятельный. Я не скажу, что кончилось твердым «нет», но кончилось. Он перестал это делать.
Однажды он взял Марину и Володю, ее младшего сына, и нас с Аркадием. И мы пошли в ресторан. Я вообще не понимал тогда, что такое «ресторан».
Это вам сколько лет было?
В начальной школе мы учились. Володя наш ровесник.
Он вырос во Франции, соответственно?
Конечно. Он по-русски не разговаривал. Ну, мы — дети, начали бегать. А мы с Аркадием два таких битка, толстые, здоровые. А Володя очень изящный, худой, и он от нас убегал все время. В этой беготне что-то перевернули. Не могу сказать, что отцу стало стыдно. Я помню, что возникла какая-то не просто неловкость, а ссора. Может, в этом была какая-то ревность — что Володя лучше, я не знаю. И после этого отец перестал пытаться.
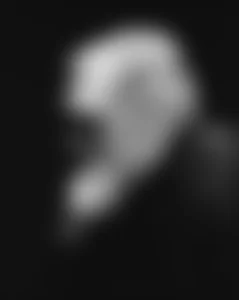
Он с матерью продолжал общаться после развода?
У них были нормальные, очень уважительные отношения. Это я потом уже узнал, что они очень болезненно расходились. Он несколько раз пытался вернуться.
Сколько они вместе прожили?
Семь лет. Они познакомились в 1961-м году, когда Высоцкий был никто, звать его никак, и у него было написано две песни: «Татуировка» и «Я вырос в ленинградскую блокаду». Все остальное он пел чужое.
А когда они разошлись… Официально они развелись в 1970-м, но фактически в 68-м уже все закончилось. Я просто помню этот день, как мы уехали.
Откуда вы уехали?
Из Черемушек, где мы жили тогда.
Я буду возвращаться к книге Влади, не потому что она для меня какой-то истиной является, а потому что я ее позавчера впервые прочитал. Она пишет, что были тяжелые отношения с бывшей семьей.
Мама точно не хотела с ней общаться. Но при этом не запрещала нам.
Ну, я маму понимаю. С чего бы она хотела общаться?
Но мама что сделала? Я потом осознал почему. А когда был ребенком, не понимал. Вы еще спрашивали про наш круг общения. Она просто порвала всё. Не было друзей, которые выбирали между ней и отцом. Она всем общим друзьям сказала «нет». Это была огромная компания. Они были очень общительные люди. Она с ним ездила, чтобы с ним ничего не произошло на гастролях. Ее в театре очень любили, к ней очень уважительно относился Любимов. Вот так просто: «Нет!» И всё.
Но при этом она не возражала против наших отношений с Мариной, она понимала, что отцу это нужно. А отец понял, что мы не сможем общаться. Дело даже не в том, что мы языка не знаем.
Марина хорошо говорила по-русски?
Нормально. Понять можно было. Я не хотел с ней разговаривать. Мне не о чем было. Она обращалась к нам, она умеет быть легкой, обаятельной. Я не знал, что ответить, кроме «да» или «нет». Просто не знал. Это совершенно другая жизнь.
Но как они общались? Это же люди из разных миров. Он в московской богеме, она — в парижской. Это разные вещи. Там колбасы 36 сортов в тот момент.
Когда она приезжала сюда, она становилась (только пусть на меня не обижается) русской бабой. Она ходила по магазинам, она…
Доставала мясо. Материлась?
Она могла выпить стакан водки. Я это видел своими глазами.
То есть Россия делала из нее русскую?
Да. Как было там — я не знаю. Я там с ними не был. У меня было с отцом несколько разговоров, именно про тот мир. Он говорил: «Надо бы вам показать, вам бы это увидеть, там все другое». Он видел какую-то правильность. Он не был инженером, но рассказывал, как устроены светофоры в Америке. Или как там организована парковка. Как магазины работают практически без продавцов. Ему была интересна эта организация…
Бытовая.
Да. Для него это было важно. Для него было очень важно ездить. И при этом он всегда возвращался. Хотя там были специалисты, которые говорили: «Володь, не сходи с ума, ты здесь будешь бог, а там тебя опять сейчас задвинут».
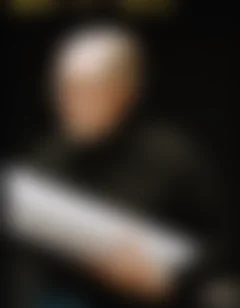
Я читал чьи-то воспоминания о том, как Высоцкий пропал в Америке на три дня. Посольство на ушах, он — невозвращенец. И анонс в СМИ: Высоцкий дает интервью американскому телеканалу. Ну там всё понятно — ЧП мирового масштаба. И вдруг в интервью Высоцкий говорит: «Я родину люблю, я не могу без нее». И все облегченно вздыхают.
Я не в таком изложении, но знаю эту ситуацию. Был такой Виктор Шульман, абсолютный авантюрист. Окончил консерваторию, пианист. Он уехал в Америку и пробовал через общих знакомых вызвать Высоцкого на гастроли. Не через официальные каналы — ну как вызывали артистов. И отец действительно пошел на какие-то хитрости. Был у него товарищ, который сделал ему вылет из Германии в Америку без разрешения нашего консульства. То есть, грубо говоря, Советский Союз не знал, что он в Америке. Потом видят: реклама, интервью в журнале. Конечно, все были в шоке: по документам-то он в Европе.
Были санкции?
Шульман очень смешно рассказывал. Его нашли люди из посольства и говорят: «Давай Высоцкого сюда». И Виктор говорит отцу: «Володя, давай». Он отвечает: «Нет, будем прятаться. До конца будем прятаться!»
Уже Марина приехала. Может быть, и ей сказали: «Идите, ловите его, он черт-те чем занят!» Она ему позвонила. И в конце концов он сам пришел. Не сдался, а просто говорит: «Все нормально, я поехал домой».
Из-за чего они с Мариной расстались?
Тут сложно сказать. Я повторюсь, он не был тульским пряником. Совсем. И потом, у них держались отношения на том, что они бóльшую часть времени были порознь. Они созванивались, но не были в полном смысле семейной парой.
То есть это был роман по переписке. По телефонной связи, в смысле.
Да.
Вы после смерти отца с ней общались?
Да. Недолго, но общался. Тоже не получилось. Вначале, когда он умер, почти все близкие люди были вместе, обнимали друг друга, разговаривали друг с другом.
У отца были очень разные круги общения, которые часто не пересекались. И вдруг, когда он умер, эта утрата всех объединила.
Марина называла мою маму сестрой. Она очень хорошо к нам отнеслась в сложной ситуации, в которой мы все оказались. И постепенно жизнь просто взяла свое.
Такой вопрос. В 70-х и 80-х не было ни соцсетей, ни желтой прессы. До вас доходили слухи о проблемах вашего отца? Вот эта история, которую вы показали в фильме «Спасибо, что живой». Случай в Узбекистане, клиническая смерть. Вы откуда о ней узнали?
От Севы, когда уже девять дней отцу было. Он мне там и рассказал эту историю. Что отец должен был умереть ровно в тот день год назад. Я видел этот год, который ему подарили, которого не должно было быть.
То есть пока отец был жив, вы ничего не знали?
Знали, конечно. Кое-то видели сами, что-то нам рассказывали. Допустим, была ситуация. Он подрался сильно. Могли быть даже последствия. А поскольку круг узок… Он же жил в доме Союза художников. У нас были знакомые художники высокого уровня, которые нам что-то рассказывали. Это все равно так или иначе циркулировало. Понятно, сразу брали трубку и звонили. И мама звонила, и я мог позвонить бабушке, если до него не мог дозвониться. Ну и потом, я не считал, что это мое дело. Уже когда я стал постарше, стал замечать что-то. С алкоголем-то понятно, а с другими вещами… Я был человеком неопытным. Но видел, что у отца проблемы.

Между мной, вами и Высоцким большая разница в возрасте. В моей молодости, в 90-е, все пили, но вещества — это была редкость. А в те годы, наверное, суперредкость. Осталось невыясненным, или вы ставили этот вопрос: кто вообще притащил?
Есть конкретный момент, как я считаю, это были театральные гастроли. Вызвали врачей. Он бывал уже по этому поводу в больнице. Наркологи в его жизни уже появились. А это был другой город. Они сказали, что сделать ничего невозможно, что мы его вот так к вечернему спектаклю не подготовим, но в принципе — можно! Чтобы не срывать спектакль.
К нему приехали по алкогольной теме и вывели его из этой ситуации, сделав ему инъекцию?
Да. Я об этом разговаривал с несколькими разными людьми. Причем это же выглядело как помощь — вроде чтобы не подводить людей. А в какой-то момент это уже стало большой проблемой. Отец же в конце жизни делал совершенно зверские вещи. Это непроверенные, полукустарно изготовленные аппараты, которые кровь через какие-то фильтры прогоняют. Ему это не помогало ни хрена. В общем, он пытался слезть. Когда он умер, он в этом смысле был абсолютно сухой. Как раз это была одна из проблем: в Москве никто ничего не мог в это время ни достать, ни сделать, потому что была Олимпиада.
Именно из-за того, что это было очень сильно «под ковром», люди, которые, может быть, и могли бы помочь, слишком поздно хватились. А может, и нельзя было помочь, я не знаю. Но я это видел, мне было страшно, потому что я ничего подобного не встречал вот так на улице.
Ну конечно, человека пьяного мы видели везде. На школьном дворе, в подъезде. А такого — никогда.
Думаю, что он это понимал. Мне все говорят: «Ты снял картину про человеческую слабость». Я отвечаю: «Мы сняли картину не про слабость, а про силу Высоцкого. Он не разрушился, не деградировал. До последнего своего часа оставался личностью. Он работал. Ему было очень херово, но он оставался человеком».
А вы помните последнюю встречу?
Это было очень тяжелое лето. Последние несколько месяцев его жизни. Я и Аркадий оказались в Москве. Бабушка устроила семейный ужин. Он, конечно: «Какой ужин, зачем?» Но он тоже ее любил. И понимал, что происходит. Он-то понимал лучше всех.
Мы сели, она приготовила что-то, пыталась веселить. Он сидит, у него пустой взгляд совершенно. Она все-таки напоила нас чаем, что-то мы съели, поговорили, повспоминали. Шло открытие Олимпиады. Уже было понятно, что ничего не получилось. Он говорит: «Ты сиди, я пойду». И он уже перед лестничной клеткой так обернулся, так долго-долго на меня смотрел.
Я такой взгляд один раз недавно встретил. Уходил мой друг. Я его привез в больницу и после этого не видел. Он умер там. И вот он на меня так же последний раз посмотрел. То есть он уже понимал, что больше не встретимся. И у отца был такой же взгляд.
Во время Олимпиады Москва была абсолютно вымершая.
Я что-то подобное испытал, когда была пандемия. Вроде какие-то машины ездят…
Абсолютно. У меня было такое же ощущение. Я помню то лето. Мы с матерью гуляем, а город пустой, никого нет.
Да, это правда.
Город пустой. Вдруг смерть. И у Таганки собирается… Сколько там было человек?
Вы знаете, я слышал разные цифры. Говорят, порядка 70 тысяч человек. Это очень много.
Их никто не разгонял?
Нет. Думаю, что никто не ожидал. Есть такой кадр, где милиционер пытается удержать эту очередь. Камеры отнимали.
Но люди везде были — на крышах, в окнах, на земле, на всех пригорках, на киосках, на троллейбусах, которые встали и ехать не могли. Везде люди.
Мы приехали очень рано. Абсолютно пустой город. Потом я вышел в ту дверь, через которую сейчас подают декорации на старую сцену. Она прямо на Садовое кольцо выходит. Я вышел и офигел. Я такого не видел. Море, вот море! Живое море людей. И все стоят, все смотрят. Не кричат, не дерутся, ничего.
Мы вышли. Вынесли гроб. Кто-то закричал: «Прощай, Володя!» И вдруг это море людей идет на театр. Люди подходили и бросали цветы. Мы потом ехали по Садовому по ковру из цветов. Я помню треск.
Стебли ломаются.
Да.

Когда, на ваш взгляд, начался культ Высоцкого?
Сложно сказать. Начиная с 65-го года вокруг него разные люди были. Фанатики. Коллекционеры, которые собирали записи и всё, что с ним связано. Это, наверное, касается любой знаменитости. А вот после похорон действительно что-то началось. Я не скажу «культ», но какая-то…
Героизация.
Например, стали проводиться слеты самодеятельной песни, посвященные Высоцкому. При этом, надо сказать, барды всегда его любили по-своему, но он никогда не был на Грушинском фестивале или еще где-то.
Мне хочется верить, что это было запоздалое признание в любви. Через несколько лет после смерти отца уже снял фильм Рязанов, уже поставили памятник. И было ощущение, что это не официальный культ, насажденный сверху, а что-то внутреннее. Что случилось потом? Самиздат, обмен, какие-то клубы, подпольные концерты, выставки, перезапись, музей (его при театре пытались сделать). И появился такой всесоюзный фан-клуб Высоцкого. А в 1987-м ему дали Государственную премию посмертно. Это очень редкий случай. Дали причем очень смешно — за роль Жеглова в фильме 79-го года, то есть восемь лет спустя. А его уже семь лет как не было.
Был вал вечеров, и апофеозом всего этого — Малая спортивная арена «Лужников» и концерт. Все замечательные люди: Камбурова пела, Щедрин играл на рояле. Представляете, на рояле играет на стадионе, а все слушают, потому что это ради Высоцкого.
Вы как себя в этом во всем чувствовали?
Трудно сказать. Я видел, что это очень радовало бабушку и дедушку. Они люди старой закалки. Если страна признала, если дали Государственную премию. Я помню, они вдвоем вышли получать эту премию. Они были счастливы. Бабушке это просто продлило жизнь, не потому что она тщеславный человек. У нее было ощущение, что Володе хорошо.
Недодала страна при жизни, сейчас возвращала.
А что касается меня… Меня же гонят. Я тут чуть не подрался на кладбище. Меня выгнали. 25 января и 25 июля я на кладбище не хожу. А тут я пошел и схлестнулся с людьми.
А что они говорят? Он такой же наш, как и ваш?
«Ты не любишь своего батю!»
Сколько лет им?
Есть старые, есть молодые. Разные. Но все пьяные. По-трезвому на могилу не полезешь. Он встает на могилу. Там лежит человек, которого ты любишь. И с этой могилы он читает дурным голосом Высоцкого. Я повторюсь: это значит, что волна пошла на убыль.
У кого появилась идея снять «Спасибо, что живой»?
Сразу в нескольких головах. Но Эрнст первый позвонил.
А вы были знакомы до этого?
Да. Конечно, без него мы бы ничего не сделали. А тут он мне позвонил и сказал: «Я хочу снять фильм, я хочу с тобой об этом поговорить». Потом мне позвонили от Любимова и так далее. Эта идея вдруг одновременно ко всем пришла.
Сейчас вы той же компанией (Эрнст, Максимов, вы) делаете фильм, который называется «Август». Это экранизация романа «В августе сорок четвертого». Что вас привлекает в этой теме?
Вы знаете, роман, говорят, культовый. Я не могу оценить его культовость, я не знаю, сколько его издавали. Я взял его у деда. Для него, для многих людей того поколения это многое значило. Дед говорил: «Тебе рано читать этот роман».
Сколько лет вам было?
Лет 12. Ну естественно, когда мне говорят «тебе рано»…

Точно надо прочитать.
Просто не обсуждается! Я прочитал. И дед говорит: «Хорошо бы, чтобы ты подумал, чтобы не забывал то, о чем прочитал». Для меня эта история связана с семьей. Дед прошел всю войну, у него куча орденов. Для меня семья очень важна. И вот отношение деда к этой книге… Мне передалось, что это не просто книга. И когда я ее перечитывал в начале работы над фильмом, у меня всплыло очень много тогдашних ощущений.
А про что это кино для вас?
Вы знаете, что первое название этого романа было «Момент истины»?
Да.
Которое не проканало. Роман назывался «В августе сорок четвертого». Моментом истины называется у разведчиков момент, когда удается не просто получить информацию — когда нет никакой лжи, никакого вранья. Абсолютная чистота.
А здесь мне казалось (рабочее название было «Момент истины»), что это история похода трех людей, почти былинных героев, которые идут не просто за золотым руном, а идут к истине. Нельзя победить, а потом понять, почему мы победили. Можно найти истину и тогда победить. И в этом смысле мне показалось, что эта история — мифологическая.
Давайте про ваших детей поговорим. Вы им как про деда говорите?
У меня четверо детей. Двое уже взрослые. Когда они были маленькие, я, безусловно, боялся. Я не настаивал. Но нашлись люди. И в общем, я думаю, и Семен (мой старший), и Даня — они, что называется, в теме. Но не зациклены только на Владимире Высоцком.
А маленькие… Они очень музыкальные (и Нина, и Витя). У них очень хороший слух в отличие от меня. Они пели. Я вначале напрягся, говорю жене: «Наташ, им так будет трудно, что с этой фамилией их будут сравнивать. Это может раздавить человека». Она отвечает: «Их никто не раздавит, не надо за них бояться». И в общем, Наташа права. Хочется, чтобы они жили своей жизнью. Мы начинали разговор с того, что я опасался, что всеобщая любовь к Высоцкому накроет меня, и я под этим задохнусь.
Что эта фамилия превратится из регалий в должность.
Ну да. Не даст тебе двигаться. Быть собой. А жена говорит: нет, и время не то, не надо этого бояться. Тебя же, говорит, ничего не раздавило, и с ними будет так же. Пусть они про это знают, пусть поют, пусть читают. Они знают и будут знать. Они знают, где могила. Они понимают.
Арт-директор: Виктория Морозовская
Гафер: Давид Марукян
Визажист: Яна Коптякова
Продюсер: Дарья Безусая