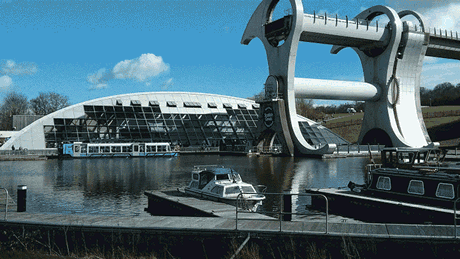Если судить по храмовой росписи, рисункам и гравюрам XIV–XV столетий, то создается впечатление, что люди в те годы активно общались с ожившими мертвецами. На картинах бодрые скелеты буквально ведут их по жизни. Возникают вопросы: почему, зачем и куда?
В землях Западной Европы сюжет о взаимодействии усопших со здравствующими был очень популярен в Х веке. Тогда дремучее средневековое человечество ожидало конца света, как и мы, просвещенные, в 2012-м. Однако самые ранние сведения о поэтической разработке темы относятся ко второй половине XIII века. В частности, это песнопения французского трувера Бодуэна де Конде и легенда о «Трех мертвых и трех живых». Вот она: трое богатых юношей возвращаются с роскошной охоты и встречают трех оживших покойников. Те увещевают их покончить с праздностью и задуматься о быстротечности жизни: «Вы неизбежно станете такими же уродливыми, как мы, и, возможно, попадете в ад, если заранее не начнете готовиться к благочестивой смерти».
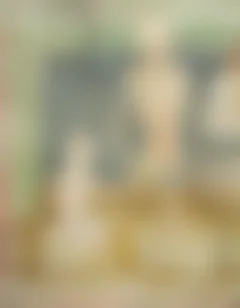
Art Images / Getty Images
Второе пришествие сюжета случилось в XIV веке. В те годы конец света мог произойти в одной отдельно взятой стране — Франции: Столетняя война, чума, голод. Поэтому то, что сегодня известно нам как «Пляски смерти», или Danse macabre, зародилось именно там и тогда, но по причине недостаточной грамотности населения присутствовало в основном в изобразительных формах.
На рисунках первой половины века молодых охотников изображали пешими. Затем их стали рисовать на конях в дорогой сбруе, с соколами и собаками. Для солидности. Так художники намекали, что перед смертью вообще все равны. Образы мертвецов следовало писать по канону: первый — весьма сохранившийся, второй — похуже, ну, а третий совсем плох. Для пущей убедительности их иногда вооружали косами или луками. Мир мертвых и мир живых нередко разделяли крестом.
Для особо грамотных такие рисунки сопровождали назидательными подписями. Из них следовало, что жизнь скоротечна, смерть внезапна, блага эфемерны, и «всех нас гроб, зевая, ждет». Такой взгляд на вещи импонировал католической церкви, она разрешила живописать подобное на стенах храмов, на монастырских и кладбищенских оградах.
Появление на этих картинах самой Смерти, а не заурядных мертвецов, относят к XV веку. Самым ранним из известных изображений, где Костлявая выступает в образе жуткого скелета, считают фреску на аркаде Парижского кладбища Невинноубиенных младенцев (1424 г.). В том же столетии «Пляски смерти» можно было лицезреть не только в росписи, но и в скульптурах, в резьбе по дереву, на гобеленах. Особое распространение эта художественная традиция получила с эпохой книгопечатания.
Обычно Danse macabre выглядели так: в хороводе или шествии могло участвовать до тридцати представителей разных сословий, но чаще — 24. Каждый выступал в паре со скелетом, Смерть вела всех — раба и патриция, мужа и жену, старого и малого — к могиле. Персонажи выстраивались в процессию строго по иерархии: император был первым, а бедняк — замыкающим.
Постепенно в классическом сюжете начинает просматриваться горький, или, как мы говорим сейчас, — черный юмор. Смерть предстает жуликом, заставляющим всех плясать под свою дудку, шулером, способным обыграть любого.
Так в середине 1520-х годов немецкий рисовальщик Ганс Гольбейн Младший создал серию рисунков, известных под названием «Пляска смерти». В них просматривался уже не черный юмор, а настоящая социальная сатира. Персонажи были всё те же, но смерть не танцевала с ними, а грубо и внезапно вмешивалась в их повседневную жизнь. Через это автор разоблачал кажущиеся благополучие и гармонию современного ему миропорядка.