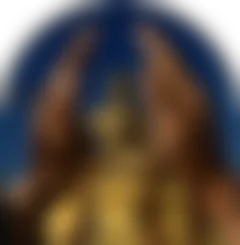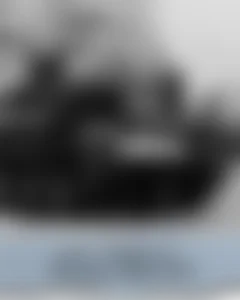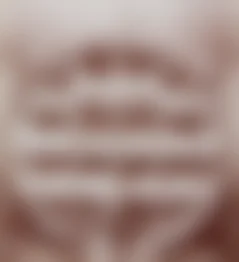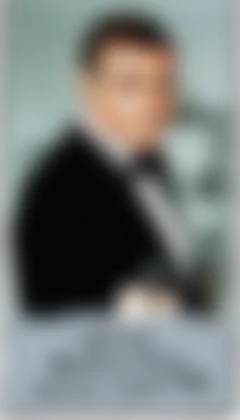В годы Великой Отечественной военные корреспонденты шли в атаку рядом с бойцами и нередко разделяли судьбу героев своих репортажей. Заметки с фронта присылали и журналисты, и литераторы первой величины, и простые писатели. Многие не вернулись домой. Но все они оставили после себя правдивые строки и уникальные кадры, из которых складывается портрет защитника Родины. К 80-летию Победы ЧТИВО отдает дань уважения легендарным военкорам, тем, кто сохранил для нас память о бессмертном подвиге народа.
«От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли…» — первая строчка всем известной «Песенки военных корреспондентов» не художественное преувеличение. Ее автор, Константин Михайлович Симонов, прошел, проехал, проплыл через всю Великую Отечественную войну, от Волги до Эльбы, от июня 1941-го до мая 1945-го.

Александр Лесс / ТАСС
Рождение военкора
28 ноября 1915 года в Петрограде, в семье генерал-майора Российской императорской армии Михаила Симонова и княжны Александры Оболенской родился сын, названный Кириллом. Два десятилетия спустя он переменит имя на Константин: будущий легендарный военный корреспондент плохо выговаривал букву «р» и в итоге предпочел хотя бы в собственном имени обходиться без нее. А пока его семью захватил вихрь Первой мировой войны и революции: отец пропал без вести, мать повторно вышла замуж, и снова за офицера, теперь уже новой, Красной армии — Александра Иванишева, преподавателя тактики в учебных заведениях РККА.
Детство Симонов провел в гарнизонах, начал работать токарем на заводе, но вскоре с головой ушел в поэзию, издал сборник стихов, а в 1938 году окончил Литературный институт и стал членом Союза писателей. Летом 1939-го Симонова ждала первая военно-журналистская командировка. У реки Халхин-Гол советские войска помогали монгольским союзникам отразить нападение японской армии — и редактору газеты Д. И. Ортенбергу, помимо прочих журналистов, понадобился поэт.
Война, пусть и короткая, произвела на Симонова неизгладимое впечатление «большого и безжалостного хода событий, в котором вдруг <…> на минуту жаль себя, своего тела, которое могут вот так просто уничтожить, своего дома, своих близких <…> А от тебя может остаться просто растоптанный чужими ногами бумажник с фотографиями». Но, невзирая на этот естественный страх, Симонов ехал на фронт — чтобы увидеть своими глазами бомбежки и обстрелы, живого и мертвого врага, потери и победу. Один образ запал ему в душу — бронированная машина, добравшаяся через пески и пламя до самых вражеских окопов, уничтоженная, но победившая:
Я выкопал его бы, как он есть,
В пробоинах, в листах железа рваных, —
Невянущая воинская честь
Есть в этих шрамах, в обгорелых ранах.
Так писал Симонов в стихотворении 1939 года «Танк».
Буйничское поле

Павел Трошкин

Public Domain
Уже 24 июня 1941 года Симонов получил назначение в 3-ю армию, в газету «Боевое знамя». Отправившийся на поезде через немецкие бомбежки военкор до цели не добрался — армия находилась на самом острие вражеского наступления, в белорусском Гродно, и оказалась в окружении. Поезд встал — дальше ехать невозможно. В дневнике Симонов отметил:
«Где-то бухала артиллерия. Было отвратительное ощущение неизвестности, а у меня к тому же — безоружности. Болтавшаяся на боку пустая кобура только раздражала». Один из попутчиков раздобыл писателю винтовку и вручил со словами: «Ведь не газету же здесь выпускать!»
Стрелять из этого оружия по врагу Симонову не пришлось, но, пока он не добрался хоть до какой-нибудь редакции, хватало и других дел — конвоировать дезертиров, помогать детям, потерявшимся в хаосе войны. Снова служить по специальности довелось несколько позднее, под Могилевом, где находился штаб фронта. В группе военкоров был минимум людей и техники, однажды Симонову пришлось лично отправиться на грузовике с отпечатанными газетами — распространять по фронту. «У нас их было в кузове десять тысяч экземпляров, — писал он в военном дневнике. — Раздавали их всем вооруженным людям, каких встречали — одиночкам или группам — потому что не было никакой уверенности <…> что мы встретим впереди организованные части». С запада на восток тянулась отступающая армия, бойцы, выходившие из окружения, — а следом за ними рвались целящие на Москву танки Гудериана. На могилевских рубежах их встретила яростная оборона советских войск.
20 июля 1941 года страна увидела в «Известиях» фотографии 39 подбитых немецких танков, снятые военкором Павлом Трошкиным на Буйничском поле, и читала очерк Симонова «Горячий день»: «С наблюдательного пункта полка хорошо было видно все поле боя. Примяв рожь, группами лежали мертвые немецкие солдаты. Повсюду маячили остовы танков. Красноармейцы принесли брошенные немцами во ржи железные кресты и медали». После неудач и трагедий первых дней войны Симонов показывал читателям: враг страшен, но не бессмертен, его можно и нужно бить. Позднее защитники Буйничского поля будут вновь им воспеты — в романе «Живые и мертвые».


Павел Трошкин (2)
Универсальный солдат информационного фронта
Из «Известий» Симонова перевели в «Красную звезду», там он оставался до конца войны. Из четырех десятков писателей, работавших в газете, Симонов был, пожалуй, самым оперативным и всегда рвался в центр событий. «Он сам идет в разведку, участвует в атаке, он на наблюдательном пункте, он на волжской переправе, под обстрелом, и всюду он искренен и прост», — писал поэт Николай Тихонов. Не знающий отдыха Симонов, без преувеличения, объял всю войну как во времени, так и в пространстве. В сентябре 1941-го он на Черном море, на подлодке Л-4, изнывает вместе с подводниками от царящей в отсеках жары — а в ноябре уже в противоположной части страны, на карельском севере, замерзает вместе с рабочими на застрявшем в ледовом капкане лесовозе «Спартак».
Между очерками с мест событий Симонов успевает создавать художественные произведения, и патриотические, и лирические. Стихотворение «Жди меня», написанное еще летом сорок первого и опубликованное в «Правде» зимой сорок второго, стало одним из тех, которые, по выражению Николая Тихонова, «солдаты и офицеры носят у себя на груди». В 1942 году в Москве Симонов работал над пьесой с тем же названием — «Жди меня» — когда пришла команда из редакции: собираться в Сталинград. Он спешил закончить пьесу и попросил об отсрочке в четыре дня, стремительно доработал оставшиеся сцены и сел в самолет, летевший к горящим волжским степям. Вскоре с Волги на всю страну прозвучал знаменитый симоновский призыв без сомнений и сантиментов убивать врагов — стихотворение «Если дорог тебе твой дом…».

Анатолий Егоров / РИА Новости
За время войны Симонов успел опубликовать пять сборников очерков и рассказов, два сборника стихов («С тобой и без тебя» и «Война»), пьесы («Русские люди», «Жди меня», «Так и будет»), написал подробный военный дневник. 9 мая 1945 года Симонов присутствовал на подписании акта о капитуляции Германии — а 10 мая был уже в Праге, там, где сдалась в плен последняя крупная группировка врага и в войне была поставлена финальная точка. Принципу быть всегда на острие событий военкор не изменял до самого конца:
Там, где мы бывали,
Нам танков не давали —
Но мы не терялись никогда.
На пикапе драном
И с одним наганом
Первыми въезжали в города.
(Песенка военных корреспондентов)
После войны Симонов продолжил литературную деятельность, написал трилогию «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето», стал автором множества киносценариев.
28 августа 1979 года Константин Михайлович Симонов скончался. По завещанию, прах писателя развеяли над Буйничским полем — там, где насмерть стояли герои его знаменитого очерка.