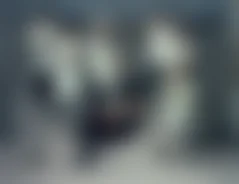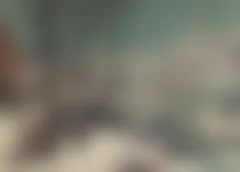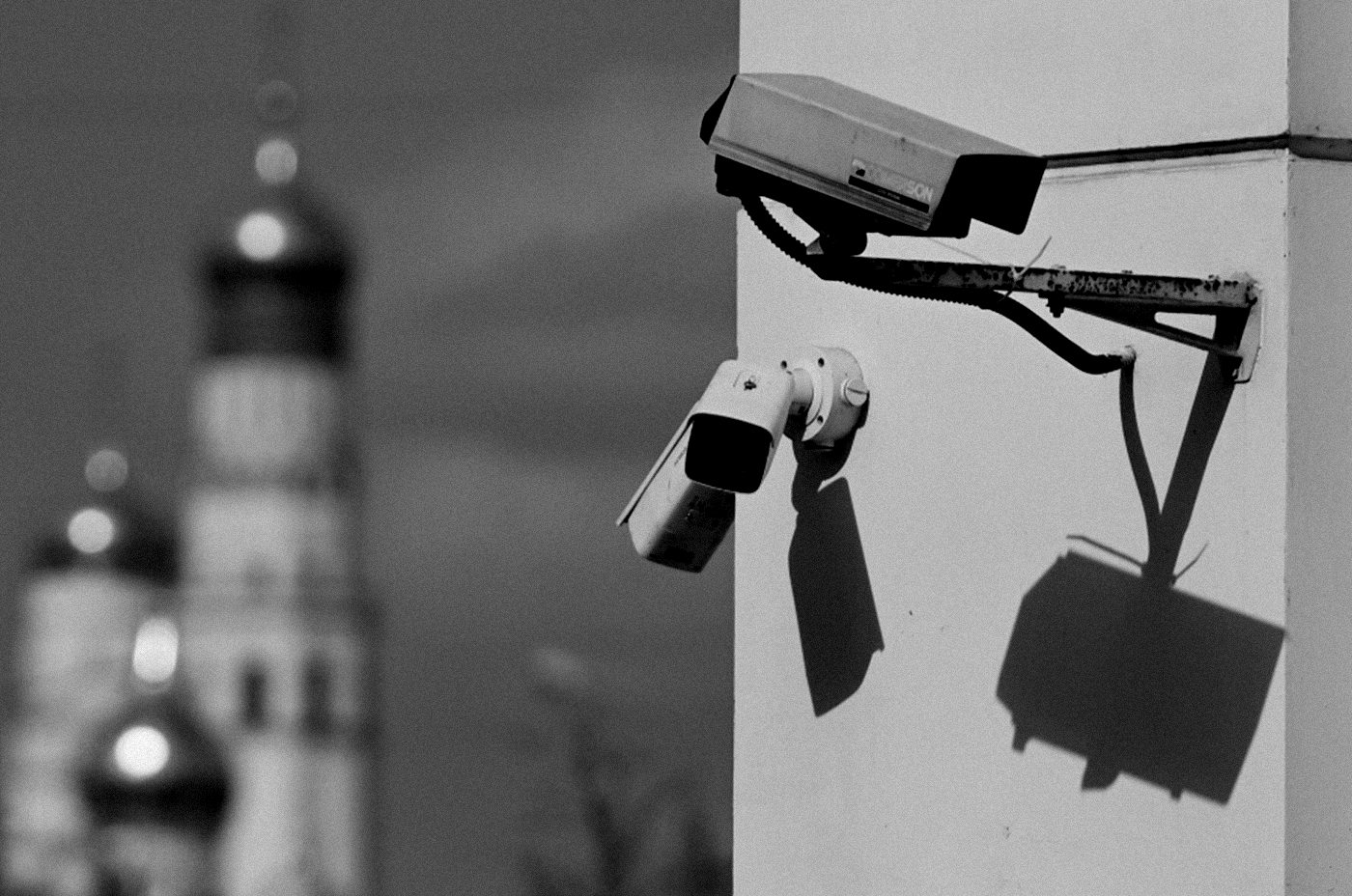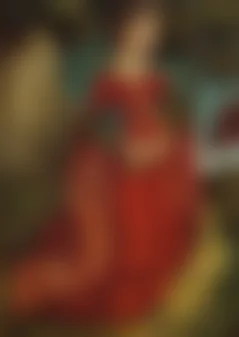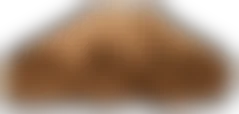На картине Джона Констебла «Телега для сена» (1821) изображена на первый взгляд обычная деревенская сцена: крестьяне на повозке переправляются через речку Стаур, неподалеку от мельницы Вилли Лотта, соседа Констебла. Пейзаж кажется безмятежным, но сцена становится более драматичной, если знать ее социальный контекст. Рассказывает арт-журналист, автор телеграм-канала Art Is New Sexy Мария Аборонова.
С XVI века, а особенно в XVIII–XIX веках, парламент Англии принимал один за другим законы об огораживании (Enclosure Acts): общинные земли, на которых крестьяне веками пасли скот и собирали урожай, передавались в частную собственность лендлордов. Поля буквально огораживали заборами и запрещали крестьянам вход. Формально это делалось для повышения эффективности сельского хозяйства, а в действительности разоряло мелких фермеров и превращало их в наемных рабочих крупных лендлордов или в вынужденных мигрантов в города.
Крестьяне больше не могли пасти коров, сеять злаки и собирать хворост.
Потеряв доступ к земле, они были вынуждены арендовать участки у лендлордов по высокой цене или становились сельскими батраками с мизерным жалованьем. Женщины и дети шли на фабрики, в шахты и работали там по 12–14 часов в день. В деревне росла нищета: люди жили в тесных хижинах без отопления, недоедали, а в голодные годы выживали лишь на хлебе и овсянке. Такая повседневность резко контрастировала с пасторалями, которые продолжали писать художники.

Огораживания стали социальной катастрофой для крестьян, но экономическим двигателем для Англии. Они укрепили финансовую мощь лендлордов, заинтересованных в «аграрной эффективности», и вытолкнули на рынок труда миллионы обездоленных, которые пошли работать на фабрики. Это дало толчок урбанизации, росту мануфактур и ускорило индустриальную революцию. Процесс проходил не особенно гладко.
В 1810–1820-х годах Англию потрясали аграрные волнения.
Одни видели в индустриализации прогресс, другие — гибель привычного уклада. Выступавшие против механизированных технологий опасались, что машины лишат их средств к существованию. Протестующих называли луддитами, якобы в честь их предводителя, Неда Лудда. Но Нед Лудд был вымышленной фигурой, которая, предположительно, появилась за 30 лет до начала луддистских протестов. По легенде, молодой подмастерье по фамилии Лудд (или Лудхэм) работал на текстильной машине. Начальник упрекнул его в нерадивости. Оскорбленный парень схватил молоток и разбил станок. Эту историю взяли за основу протестующие начала XIX века.

Несмотря на свою современную репутацию, луддиты не являлись противниками прогресса. Многие из них были высококвалифицированными специалистами и понимали преимущества машин. Луддиты всего лишь хотели, чтобы станки производили более качественные товары, чтобы на них работали обученные мастера и чтобы их труд оплачивался достойно.
Но при этом именно на машинах люди вымещали свою злость. 11 марта 1811 года в Ноттингеме, центре текстильного производства, британские войска разогнали толпу демонстрантов, требующих улучшения условий работы и повышения оплаты труда. Ночью разгневанные ткачи разбили оборудование. Такие погромы быстро распространились по стране. Опасаясь национального движения, правительство направило тысячи солдат для защиты заводов. Парламент принял закон, согласно которому порча оборудования каралась смертной казнью.
Многие участники беспорядков были повешены.
Движение луддитов подавили, но вскоре новую волну протестов вызвали законы о хлебе и зерне, принятые в 1815 году. Их целью было защитить интересы землевладельцев после Наполеоновских войн, когда цены на британское зерно резко упали из-за притока дешевого иностранного.
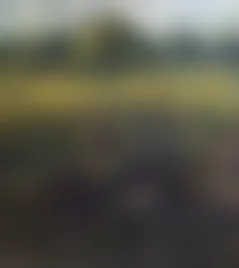
Эти законы вводили запрет на импорт зерна, пока цена на внутреннем рынке не поднимется до определенного уровня. То есть Англия искусственно поддерживала высокие цены на хлеб, чтобы землевладельцы получали прибыль. Для простых людей это стало очередным бедствием. Сначала их лишили возможности трудиться на своей земле, потом у них отобрали работу машины, а теперь еще и хлеб стал дорогим.
Народ назвал эти законы «законами о голоде».
Они держались еще тридцать лет и были отменены только в 1846 году после Великого ирландского голода. Все это отражало общий кризис Англии: переход от аграрной страны к индустриальной державе, где деревенская идиллия уходит в прошлое.
Пейзаж Констебла был скорее ностальгией, чем прямым отражением реальности. Люди, изображенные на картине, — это наемные рабочие, у них отняли землю, и они вынуждены трудиться в тяжелых условиях, но не могут позволить себе хлеб, который сами же производят.
Изображенная телега для сена, главный символ английской деревни, — она не крестьянская. В последние годы работы над картиной Констебл дописывал многие элементы в своей лондонской мастерской, поэтому за основу взял деревянные телеги, стоявшие вокруг пруда Уайтстоун в Хэмпстед-Хит. Привычные символы «старой доброй Англии» уходили в прошлое, и единственной памятью о былых временах оставалась эта картина.
Фото:
National Gallery