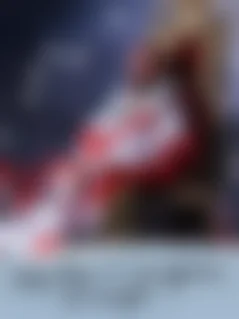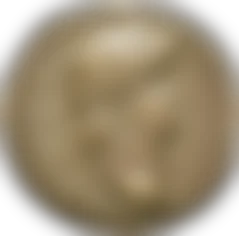В представлении многих культурная Москва держится на трех китах: Большой театр, Пушкинский музей и «Лужники». Но если балет Большого часто на гастролях, в «Лужниках» не каждый день проходят громкие матчи, то в Пушкинском есть всё и всегда. Его выставки через одну становятся легендарными: «Джоконда» в 1976-м, «Москва–Париж. 1900–1930» в 1981-м, «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана» в 1996-м. Похоже, прямо сейчас к этому ряду добавляется еще одна.
В Государственный музей изобразительного искусства, как в одну и ту же реку, нельзя войти дважды, ибо он всегда разный. Его фонды насчитывают около 700 000 памятников культуры, созданных мастерами всех эпох. Когда запасники приоткрываются — случается новый громкий проект. На очереди — «Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения». Он уникален не только содержанием — покажут наиболее значимые новинки музейных фондов последних лет, но и задумкой, потому что пройдет в формате моновыставок. Каждая экспозиция будет доступна только две недели.
Древнеегипетский магический жезл, XIX–XVIII вв. до н. э.
8–20 июля

Во времена Среднего царства этот предмет из кости гиппопотама применяли против демонов и прочих существ, обитающих в «сумеречной зоне». Они, по мнению египтян, особо опасны для человека в момент рождения или смерти, во время болезни или сна. Жезлом пользовались и в быту. Например, очертив им магический круг у постели и положив его на ночь под подушку, спали спокойно — змеи и скорпионы уже не причинят вреда.
Жезл, который можно будет увидеть в ГМИИ, — один из немногих с барельефными изображениями. Таких сохранилось всего 10 штук на весь мир. При том что вообще магических жезлов и их фрагментов в музейных и частных коллекциях более 200. Но ни на одном из них нет такого изображения, как на «пушкинском».
«Портрет офицера» Никола де Ларжильера
22 июля — 3 августа
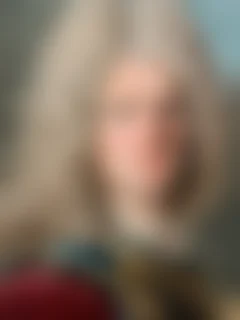
Это работа самого востребованного портретиста своего времени, причем не только на его родине — во Франции. Художника звали к себе и Карл II, и Яков II. Будучи признанным мастером парадного портрета, Никола де Ларжильер неустанно совершенствовался в этом жанре и достиг невероятных высот. Лучшая из лучших его работ — многофигурные композиции в парижской церкви Сент-Этьен-дю-Мон.
Со временем мастер стал все больше писать мужские портреты. Причем людей, не оставивших никакого следа в истории. К таким работам относится и «Портрет офицера». По мнению искусствоведов, художник предпочитал менее знатных современников знатным особам, потому что с такими заказчиками головной боли меньше, а денег больше. К тому же — гарантированных. А всяких монархов и вельмож порой приходилось писать не за плату, а за оказанную честь. После себя Никола де Ларжильер оставил 4500 портретов. Сколько он за них выручил, не известно.
Рисунок «Два мексиканца» Леонара Фужиты (Цугухару Фудзиты)
5–17 августа

В конце XIX века западные страны начали устанавливать дипломатические отношения с Японией, и в Старый Свет хлынул поток японского искусства. Приемы художников из Страны восходящего солнца поражали новизной и оригинальностью. Импрессионисты заимствовали у них композиционные и цветовые решения.
Будущий кавалер ордена Почетного легиона Цугухару Фудзита начинал, как и Никола де Ларжильер, с парадных портретов. Сделанное им изображение императора Кореи так восхитило императора Японии, что тот заказал ему свой портрет за большое вознаграждение. Фудзита заказ выполнил, гонорар получил и уехал во Францию (впрочем, в деньгах потомок аристократического рода самураев никогда не нуждался).
На Монпарнасе он покорил всех — от Шагала до Модильяни. Последний вообще стал его лучшим другом. Фу-Фу, как звали художника приятели (от французского fou, «сумасшедший»), всячески поддерживал свой нимб экзотичности: прическа как у египетских статуй, бусы, серьги, татуировки, круглые очки, кимоно на голое тело, абажур вместо шляпы и изысканные манеры. Помимо кисти и карандаша он владел боевым искусством самурая и брал уроки грации у Айседоры Дункан.
На его первой выставке были проданы все 110 работ. Сам Пикассо «унес, сколько смог». Рисунок «Два мексиканца» не продается, но даже созерцание его сопоставимо с обладанием.
Гравюра Франса Хейса (ок. 1522-1562) с композиции Питера Брейгеля Старшего «Морское сражение в бухте Мессины»
19–31 августа
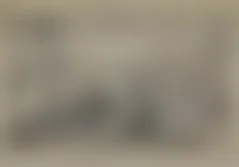
В 1560-е годы Брейгель активно занимался живописью, но также делал и рисунки для гравюр. Как истинного нидерландца его возбуждал вид корабля, разрезающего морскую гладь. Художник восхищался безупречной формой надутого паруса и мощью, заключенной в нем. В 1560-х Иероним Кок, постоянный издатель Брейгеля, выпустил серию гравюр «Морские корабли», выполненную по рисункам мастера Франсом Хейсом — востребованным баталистом, маринистом, портретистом и гравером.
В основе представленной на моновыставке композиции — рисунки Брейгеля, сделанные во время путешествия в Италию в начале 1550-х годов. Возможно, художник лично видел сражение итальянского и франко-турецкого флотов в июле 1552-го в Мессинском проливе, после которого Реджо сгорел. Изображенные корабли и матросы в чалмах — косвенное подтверждение этого предположения.
Для левой части композиции Хейс использовал рисунок «Вид Реджио». Это самая большая гравюра из всех, созданных по рисункам Брейгеля Мужицкого. Ее размеры (420 × 710 мм) превосходили стандарты бумаги и печатных станков того времени. Поэтому ее напечатали на двух листах, склеенных посередине.
«Мадонна с Младенцем» Джованни Франческо Барбьери (Гверчино)
2–14 сентября
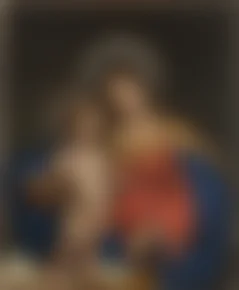
Родившийся в небольшом городке Ченто между Болоньей и Феррарой Джованни Франческо Барбьери, фактически самоучка, стал одним из выдающихся живописцев своего времени. За всю жизнь Гверчино создал более 250 произведений на религиозные и светские сюжеты. Он в числе первых стал рисовать карикатуры. Широкое признание мастер получил при жизни благодаря несомненному природному таланту.
Произведения Гверчино пользовались успехом в России, особенно у Екатерины II. Вершиной его мастерства считают «Аврору», украшающую потолок виллы Лудовизи.
Если же оценивать произведения Барбьери в денежных знаках, то самая большая сумма, вырученная за его картину, 5 190 000 фунтов стерлингов. За столько ушел в 2010 году «Царь Давид». «Мадонна с Младенцем» имеет не меньшую эстетическую ценность.