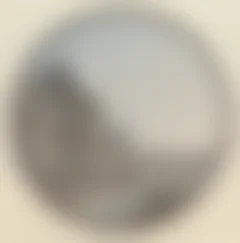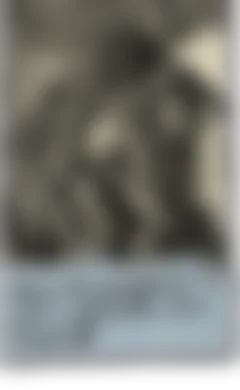Это словосочетание в русском и некоторых европейских языках означает обман, липовый фасад, создающий видимость благополучия. Беспрецедентную политическую буффонаду. Но так ли все однозначно? Может, мы стали жертвами двойного блефа, когда истинный обманщик — это «разоблачитель» обмана?
Метафора уходит корнями во времена Екатерины II, а именно — в ее крымское путешествие 1787 года. Ее тогда сопровождал князь Григорий Потёмкин — фаворит и человек, отвечавший за освоение южных территорий Российской империи. По легенде, он выстроил вдоль маршрута специально подготовленные деревни, чтобы создать впечатление процветающего края и скрыть реальное, куда более печальное, положение дел.

«Приезд Екатерины II в Феодосию»,
Иван Айвазовский, 1883 год
Public Domain
Якобы Потёмкин приказал поставить вдоль дороги бутафорские фасады домов, а по ночам переправлял одетых в праздничные наряды людей от одного населенного пункта к другому, чтобы они создавали эффект бурной жизни. История прижилась и в глазах современников, и в культуре последующих поколений как образ показного великолепия и умелой мистификации.
Но то исторический анекдот. Реальность сложнее и интереснее. Во время крымской экспедиции Екатерины II Потёмкин действительно устраивал грандиозные зрелища, демонстрируя поистине имперский размах. Ночью вдоль маршрута зажигали мощные иллюминации и запускали фейерверки, а центральной декорацией стала подсвеченная монограмма Екатерины II из 55 тысяч огней.

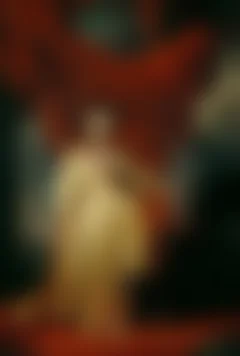
Князь Григорий Потёмкин,
1788 год
Public Domain
«Екатерина II — законодательница в храме богини Правосудия»,
Дмитрий Левицкий, 1780-е годы
Public Domain
Зрелище поразило даже ее «инкогнито»-спутника — австрийского императора Иосифа II. Специально для праздничной процессии и развлечения Екатерины была сформирована «амазонская рота» — женское кавалерийское подразделение. Все эти эффекты нужны были не для обмана гостей, а чтобы подчеркнуть мощь государства и вызвать восхищение у иностранцев.
«Потемкинские деревни» — скорее исторический миф.
Еще до путешествия Екатерины в прессе и мемуарах начали циркулировать слухи о том, что князь задумал «фальшивки». Саксонский посланник Георг фон Гельбиг, не участвуя в самой экспедиции, опубликовал в 1800 году биографию Потёмкина, где рассказывал о «нарисованных» деревнях и многократно показанных императрице фальшивых стадах. По его словам, эти поселки были картонными декорациями, а крестьян ради видимости «поднимали из центральных губерний» и по ночам перевозили на лодках вдоль маршрута императрицы. Причем делали это якобы настолько массово, что «в других местах деревни оставались заброшенными, а люди гибли от тягот переездов и лишений».
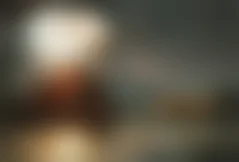
«Фейерверк в честь прибытия Екатерины II в Канев во время путешествия в Крым»
Ян Богумил Плерш, 1787 год
Public Domain
Однако ни в распоряжениях самого Потёмкина, ни в записных книгах очевидцев нет никаких подтверждений этой байки. Напротив, в официальных документах упоминается реальная подготовка к визиту: строились новые и ремонтировались старые дома для приема императрицы, а путешественники лишь отмечали пышное украшение городов и дорог свечами, флагами и триумфальными арками. Ни одно свежее описание поездки «по горячим следам» не содержит упоминаний о бутафорских селах, хотя много говорилось о масштабных иллюминациях и парадном убранстве.
Со временем выражение «потемкинская деревня» стало крылатым — как яркая метафора для показного и фальшивого благополучия. Фраза родилась из слуха, но превратилась в бессмертный символ.
Можно сказать, это лучший пример политического пиара XVIII века.
Реальность же выглядела иначе: Потёмкин вкладывал колоссальные суммы в развитие региона. По свидетельствам современников, на обустройство одного только Херсона ушло 8 миллионов рублей.
Так или иначе, миф о фальшивых деревнях остался с нами навсегда. И хотя его корни в сплетнях и догадках, сама история — напоминание о том, как легко эффектное представление может затмить настоящую работу.