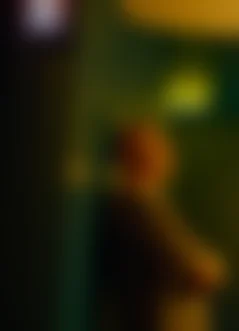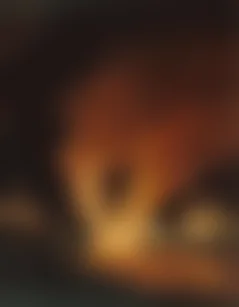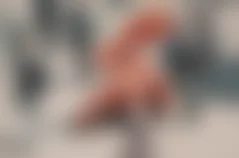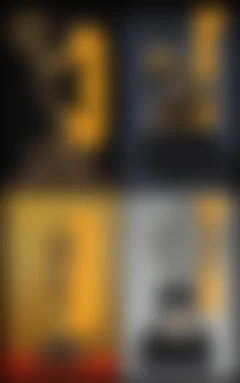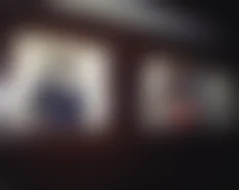Хороший понт дороже денег — эта истина известна многим народам, но только племена индейцев восприняли ее как руководство. Разоритьcя, чтобы добиться уважения? Легко!
Критики капитализма вроде Бодрийяра или Жижека любят использовать образ потлача, объясняя, как работают понты в обществе потребления. Представьте себе праздник, на котором встречается всё индейское племя. Пир и пляски сменяются дарами, а те — уничтожением имущества. В воду летят драгоценные медные пластины и инструменты, в костер — разломанные каноэ и одежда. Участники входят в такой азарт, что иной раз ввергают себя в нищету. Еще недавно в огне потлача сгорали радиолы и швейные машинки, а на дно пускались моторные лодки.

Hulton Archive / Getty Images
В каком-то смысле все началось от хорошей жизни. Племена Северо-Запада Америки, которые практиковали потлач, были самыми богатыми на континенте. Их воды изобиловали рыбой, а лес — пушниной. Они обладали тем, чего не было у большинства соседей, — избытком. А ритуальное раздаривание имущества стало способом установить баланс между родами. Организаторы потлача получали неуловимый, но крайне важный в их обществе ресурс — респект. Сказания о легендарной щедрости могли прославить ваш род на многие годы.
Респект невероятно важен для архаичных сообществ. Одни племена зарабатывают его, устраивая набеги, другие — строя монументы или обвешиваясь украшениями. Тлинкиты и квакиутли обладают иным характером. Издревле они славились как умелые торговцы и дипломаты. Для них аналогом войны, олимпиады и рок-фестиваля стал потлач. На праздник приглашали даже врагов — весь обитаемый мир должен был узнать о щедрости организаторов.
Во время праздника индейцы впадали в азарт сродни горячке карточного игрока. Сохранилось описание дуэли между вождем племени квакиутли и приезжим зажиточным купцом. Гость привез настолько ценные дары, что вождь воспринял это как вызов. Войдя в раж и пытаясь не потерять свой авторитет, он начал вручать гостю вообще все, что у него есть. Тот не отставал. В результате этой «битвы» мужчины, по сути, обменялись всем своим имуществом.
Сумасбродные траты при этом не были иррациональными. Знатный человек, организовавший потлач, продвигался в иерархии. В большом доме-нумейме он получал все более и более почетное место. В сущности, это был аналог ратуши, где место рядом с вождем красноречиво показывает твое положение в племени. А это сулит новые угодья и торговые пути. Иначе говоря, правильно организованный потлач в итоге вел к богатству, а не к обнищанию рода.
Не очень понятно, что привело к деградации ритуала, но с какого-то момента в ход пошло не только раздаривание, но и уничтожение имущества. Слишком многие богатства начали отправляться в огонь или на дно океана.
В итоге колониальное правительство запретило потлач в любом виде. Медные пластины изъяли (сейчас они хранятся в Оттавском музее), это вызвало отчаянные протесты. Обычай в былых масштабах так и не возродился, хотя нелегальные попытки случались на протяжении всего XX века. Сказалось массовое обнищание из-за потери угодий, да и смысл ритуала забылся, хотя в виде скромного праздника он проводится и сейчас. Впрочем, пословица «Хороший вождь умирает нищим» у тлинкитов жива до сих пор.