Звонкое и емкое объяснительное слово. Книг я прочел уж всяко не меньше, чем пролетарский писатель М. Горький. Но у меня положение выигрышнее: я продолжаю их читать. Я даже знаю значение слова «акме» и могу порассуждать об естественности художественного дыхания хошь Пелевина, хошь Виктории Токаревой. Но от меня ждут заветного списка книг, оказавших на меня влияние. Таковых, разумеется, много. Но вот те, в которые я ныряю с воспроизводительностью прибоя. Назовем его претенциозно: «4 книги, которые сделали меня умнее».
«Трава забвенья»
Валентин Катаев, 1967
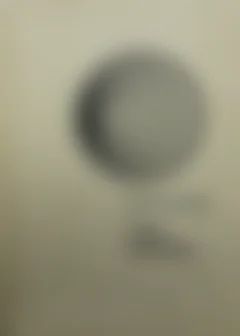
«Трава забвенья»
Валентин Катаев, 1967
В периодической таблице моих любимых книг есть своя клеточка у Валентина Катаева — «Трава забвенья». Катаев весь, от головы до ног — про жажду счастья, порождающую сладкое, но с горчинкой стеснение сердца. Он спасает, если вы, как я, искалечены невротическими опасениями по поводу тщетности и пустоты жизни, изъедены, как я, обостренным чувством онтологической ущербности.
Катаев умеет быть непостижимо трогательным — без малейшего притом надрыва, что твой Бродский. Замечу: любая умная книга есть больше или меньше барочный трактат о недостоверности познания. «Трава забвенья» зависает между жанрами, в межеумочном пространстве, но именно эта «межеумочность» пленит и заставляет думать, думать, думать.
«Последний поклон»
Виктор Астафьев, 1968
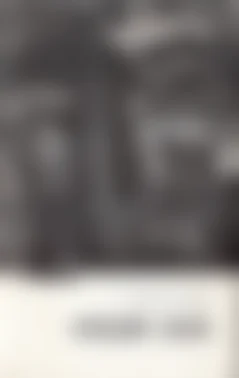
«Последний поклон»
Виктор Астафьев, 1968
А вот совсем другой случай. Виктор Астафьев, которого многие упрекали в склонности к излишней трагичности взгляда, своим бессмертным «Последним поклоном» способен сделать добрее даже сурового бирюка какого-нибудь. Повесть прокламирует такое восторженное отношение к миру, переполненному добротой и светящимся.
Я даже не могу вам назвать приблизительное количество раз, когда у меня выступали слезы и сжималась гортань. Астафьев, моделирующий добрый мир, — это словесная ткань исключительной выделки.
«Распад ядра»
Лев Аннинский, 2009
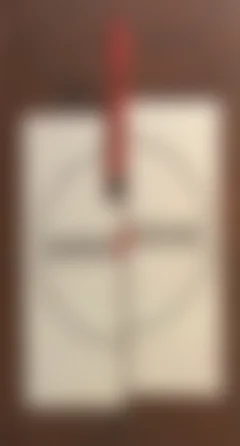
«Распад ядра»
Лев Аннинский, 2009
А с литературоведом Львом Аннинским (двухтомник «Распад ядра») у меня не просто словесная валентность, но, кажется, человеческая. У него тоже случаются набоковские ветвистые определения, но, разбирая, скажем, Битова, он разбирает меня самого на части, на атомы. Очень грубо говоря, ЛА нимало не моралист, дидактики тут ноль; он побуждает вгрызаться в произведение (читай: в жизнь).
И мыслить о себе, любимом и презираемом, в контексте.
Через Аннинского я понял, как это и что это: «Из жизни бедной и случайной я сделал трепет без конца». Книги для меня — притворяющегося хватом и хлюстом рефлексирующего пожилого юноши — еще и обеззараживающая гигиена.
«Повесть о жизни»
Константин Паустовский, 1946–1963
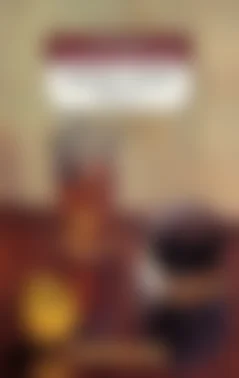
«Повесть о жизни»
Константин Паустовский, 1946–1963
Без странички, да вслух читанной, из «Повести о жизни» Константина Паустовского я неделю не начинаю. Эта книга, при всей ея многомерности, — не что иное, как невероятный дистиллят безграничного благоговения перед жизнью, не пасующей перед лицом небытия, а превалирующей и доминирующей.
Все фото:
Public Domain









