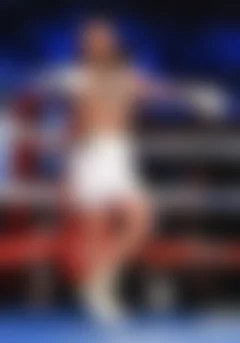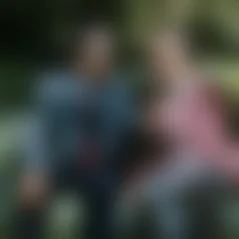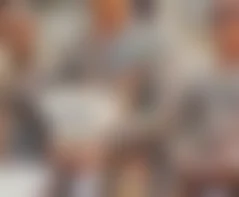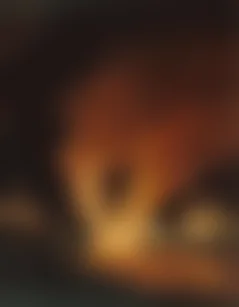Кто решает, достойна ли книга быть представленной на ярмарке интеллектуальной литературы, почему здесь продают художественные книги, сколько их покупают в килограммах и кому все это нужно? За ответами обратились к Василию Бычкову — основателю non/fictio№, гендиректору компании «Экспо-Парк», президенту Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров.
Сююмбике Давлет-Кильдеева: С чего все началось?
Василий Бычков: В середине девяностых я решил, что буду делать коммерческие выставки в области культуры. Их конкретная задача — продвижение товаров и услуг, а не только созерцание или общение с прекрасным.

Николай Казеев
Как вы, архитектор по образованию, начали ориентироваться в книжном мире?
Я попросил помочь моего большого друга Иосифа Бакштейна, с которым мы уже успели поработать вместе над выставкой современного искусства «АРТ МОСКВА». Бакштейн был интеллектуал очень широкого горизонта, и он многих книжных людей знал.
В это время как раз стали возникать независимые книжные магазины, «умные» издательства. И Бакштейн меня свел с замечательными людьми, многие из которых до сих пор с нами.
Почему именно нон-фикшен?
Это был западный, европейский и, наверное, даже общемировой тренд. Как будто людям наскучил вымысел, и возникла тяга к более точным знаниям. Отсюда и разделение на fiction — художественная литература, и non-fiction — научно-популярная, историческая. Конечно, в этом «нон» была как бы некая альтернативность к прошлому. В то время либерализм набирал обороты.
Но на ярмарке же все равно продают художественную литературу?
Именно этот вопрос нам задавали иностранцы, когда мы стали ездить на книжную ярмарку во Франкфурт.
Тогда кто-то из экспертов предложил поставить слеш, и с тех пор название такое — non/fictio№.
Non/fictio№ — ярмарка интеллектуальной литературы. Как вы решаете, какие книги дотягивают до этого звания, а какие нет?
Да, звучит довольно пафосно. Я сам не раз задавался этим вопросом и в начале даже предлагал подобрать вариант поскромнее, но эксперты настаивали: такая высокая планка нам необходима.
Как мы определяем, что относится к интеллектуальной литературе? Здесь мне снова помог опыт организации «АРТ МОСКВЫ». На первой выставке в 1995 году было представлено 42 галереи — от статусных, вроде «Риджины» или XL Елены Селиной, до самых разных, мягко говоря, других.
Я отбирал на свой вкус, отсекая лишь откровенную эзотерику и ерунду. Но снова Иосиф Бакштейн меня надоумил: для создания имиджа так не пойдет. И через год мы оставили только 18 лучших галерей. Тогда я сформулировал для себя принцип: если есть возможность оценить качество — своими силами или при помощи экспертов, то нужно представлять только лучшее. Никакого треша, масскульта и чего-то непонятного.
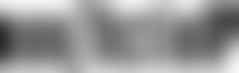
Как реагировали потенциальные участники на такую строгую селекцию?
Поначалу были возмущения — но, извините, это частная ярмарка, я кого хочу, того и приглашаю к участию. Нам даже звонили «сверху». Но мы стояли на своем. Бывало, что и уважаемые крупные издательства привозили на стенд все подряд, как в обычном магазине.
Мы, организаторы вместе с экспертами, подходили и говорили: «Так не пойдет». И они, к их чести, буквально за день меняли экспозицию — одни книги увозили, другие привозили. Постепенно все устаканилось. Издатели — люди умные и соображающие, они быстро поняли наши правила игры.
Практически с самого момента основания ярмарки в медиапространстве звучат сожаления и упреки из-за снижения ее интеллектуального уровня.
Возможно, это общая тенденция. Я, разумеется, не литературовед и не критик, но абсолютно уверен в одном: несмотря на устремления издателей, они вынуждены ориентироваться на потребительский спрос. И вот здесь моя главная боль — я думаю, не только моя, — что уровень этого запроса неуклонно снижается. Уровень читательских ожиданий падает. Что мы, собственно, и наблюдаем во всех сферах коммуникации и потребления.

Как вы для себя объясняете снижение этого уровня?
Мне даже не хочется произносить это слово — «телевидение». А стало оно таким сегодня потому, что его содержание определяет абсолютное большинство тех, кто включает «кнопку».
Обычный человек, уставший после работы, скорее выберет не National Geographic, а развлекательный контент известного качества. И таких — 93 %. И этот выбор искусно подогревается целой индустрией, которая работает манипулятивно и настойчиво.
Что вы сами сейчас читаете? Художественную литературу?
Художественную почти перестал читать, только нон-фикшен. Такое глупое желание стать умнее. Хотя нет, вообще, читаю, но только классику. Недавно прослушал половину «Мертвых душ» Гоголя, а потом дочитал. «Господ Головлёвых» Салтыкова-Щедрина, наоборот, сначала читал, а потом слушал в машине.
Что из нон-фикшена?
Читаю Лоуренса Фридмана «Стратегия: война, революция, бизнес» — где-то до половины добрался. Очень интересно, как он применяет военно-геополитический анализ к более частным, прикладным сферам жизни. Правда, некоторые моменты пока до конца не укладываются в голове.
Читаю его параллельно с книгой Майкла Баскара «Принцип кураторства» — просто отличная работа. Очень здорово написана и блестяще переведена. Баскар говорит о роли кураторства в эпоху переизбытка.
Читая книгу, я вдруг ясно осознал, что в своей работе, со своей командой мы, по сути, и есть кураторы. Сейчас вообще наступил век кураторства.
Хорошо это или плохо — вопрос открытый. В эпоху, когда все решают кураторы, неизбежно принижается роль творца. А она, честно говоря, и так давно отошла на второй план.
В каком смысле?
Если проследить эволюцию, то сначала была эпоха производителя, когда, например, Генри Форд диктовал моду, цены и тренды. Затем, после Второй мировой войны, началось массовое перепроизводство, и наступила эпоха дистрибуции — именно дистрибьютор, который мог поставить, скажем, Volvo в Зимбабве, становился ключевым звеном. А потом пришла эпоха потребителя, который, казалось бы, стал всем управлять, и она продолжается до сих пор.
Но теперь нас захлестнула эпоха кураторства. Потому что потребитель лишь думает, что он выбирает свободно. На самом деле его выбор предопределен теми, кто составляет для него плейлисты, подборки и рекомендации. Идет невидимая битва гигантов — тех самых платформ и алгоритмов, которые формируют наш вкус и потребление.
А почему? Да потому что в океане контента у слушателя или читателя просто нет физической возможности все охватить. Ему нужен проводник, тот, кому он доверяет.
Этим проводником и стал куратор.
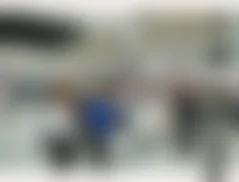

На non/fictio№ тоже нужен куратор — как еще сориентироваться в таком большом количестве книг? И если мы заговорили о перепотреблении, кураторские подборки перед ярмаркой выглядят устрашающе: «50 книг, которые нужно купить на non/fictio№», «99 лучших книг…» и так далее. Кто сегодня покупает по 99 книг? Я уже не спрашиваю, кто читает.
В основе этого лежит своего рода жадность — в самом хорошем смысле слова. Эта жадность — «хочу и то, и это, и вот это» — она очень понятна. Конечно, все прочитать невозможно, но я не вижу в этом подходе ничего зазорного. Напротив, отношусь исключительно положительно. Я сам каждый раз тысяч на 50 книг покупаю.
Во-первых, это поддержка книгоиздания. Во-вторых, даже если ты купил на 50 тысяч, а прочел на пять, ты вложил эти деньги в наше общее дело, а не на какой-то треш их потратил. Я вижу, как люди уносят книги чемоданами. Мы даже завели у себя отреставрированные весы, я их в Петербурге нашел, и устроили конкурс: кто купит больше книг по весу.
И у нас был рекорд — 115 килограммов.
У меня есть несколько друзей, крупных бизнесменов, у которых нет времени зайти на ярмарку. Узнав, что мы составляем топ-листы, а мы начали это делать лет 15 назад, еще до расцвета «Озонов» и «Амазонов», они присылали мне деньги, а я отправлял им по 3–4 баула с книгами из этого списка. Сейчас же я просто высылаю им всем наш топ-лист, а они сами заказывают все на маркетплейсах.
Как устроена ваша экономика? Ярмарка — это прибыльное дело?
В целом — да. Наш ярмарочный бизнес приносит доход. Скажу так: «АРХ МОСКВА», «Антикварный салон» и зимняя non/fictio№ — в плюсе. А вот весенняя non/fictio№ почему-то до сих пор получается слегка убыточной.
Что касается стоимости для издательств, мы изо всех сил стараемся либо не поднимать цены, либо повышать их минимально. Мы прекрасно понимаем, насколько сейчас всем тяжело — и небольшим издательствам, и даже очень крупным. Сначала были проблемы, связанные с пандемией: сложности с производством, бумагой, полиграфическим оборудованием. Но сейчас главные вызовы — это инфляция и снижение покупательского спроса.
На входе ярмарки традиционно у нас представлено 50 малых региональных издательств, которых мы уже много лет фактически за свой счет приглашаем. Там стоимость стенда, по-моему, 5000 рублей. В этом году книжный проект «Смысловая 226» согласился поддержать, оплатить эту зону.

Есть какой-то цензурный смотр того, что будет на ярмарке?
Да, мы сами смотрим. Не первый год замужем, что называется. Мы с соблюдением законодательства поднаторели, шишки набили, с точки зрения возможных негативных, нежелательных реакций, которые могут навредить всем — организаторам, участникам и ярмарке в целом. Должен сказать, что если несколько лет назад это встречало какой-то негатив, то сейчас, в общем, все с пониманием относятся.
Вы представляете, на ярмарку приходит 50 тысяч человек. Сейчас был рекорд — 54 тысячи. Наш 30-летний опыт показывает: в любой сотне людей — даже среди участников, не говоря уже о посетителях — всегда найдется один-полтора процента неадекватных. Иногда это буквально люди с психическими отклонениями. А что уж говорить о 50 тысячах? Обязательно найдется тот, кто что-то не так поймет. Поэтому мы стараемся заранее продумать безопасность и по возможности оградить территорию от эксцессов.
Фото:
архив пресс-службы (4)