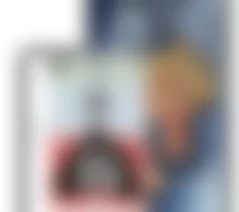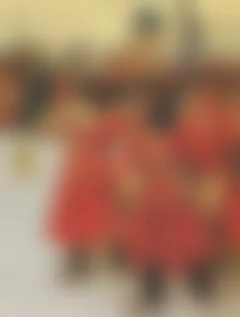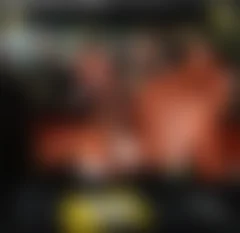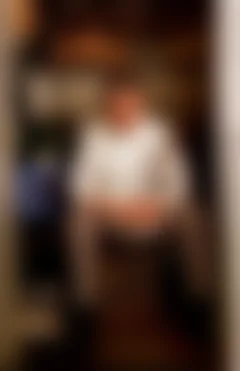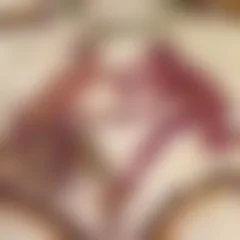Может ли фильм ужасов быть настоящим искусством? В середине 2010-х кинематографисты бросили вызов стереотипу о том, что это убогое и второсортное развлечение. Для обозначения «умных» авторских работ критики предложили термин «постхоррор» или «возвышенный хоррор». Жаркие споры об адекватности этих определений не утихают до сих пор.
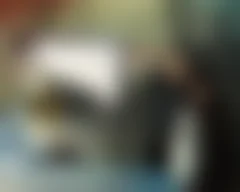
Warner Bros. / All Film Archive / Mary Evans / East News
Идея использовать термин «постхоррор» впервые пришла в голову критику Стиву Роузу в 2017-м. Он сделал это, когда заметил, что за последние годы вышло несколько фильмов, не подходящих под привычное определение хоррора. Формально описывая ужасные и сверхъестественные события, они не пытались вызвать у зрителя отвращение, демонстрируя внутренности и проливая реки бутафорской крови. Чтобы произвести впечатление, они в первую очередь полагались на атмосферу, а не на скримеры (эффекты, когда резкий звук или изображение вызывают внезапный испуг у зрителя). Такие фильмы явно отличались от «обычных» хорроров — «Пятницы, 13-е», «Хэллоуина», «Ночи живых мертвецов», «Техасской резни бензопилой».
В качестве флагманов нового поджанра Роуз выделил хорроры молодой и амбициозной студии A24: «Оно приходит ночью» (2017) — минималистичную зарисовку на тему смертельного вируса, предвосхитившую пандемию коронавируса; «Историю призрака» (2017) — скорее не страшную, а грустную притчу о судьбе мужчины, погибшего в аварии; «Ведьму» (2015) — вроде бы классическую историю о дьяволе и его приспешницах в сеттинге Новой Англии XVII века. Все они показались критику более глубокими, продуманными и сложными, чем кинематографический ширпотреб с маньяками в масках.
Со временем список постхорроров расширился. У критиков возникло еще одно выражение для описания таких картин — elevated horror, то есть «возвышенный ужас». К ним обычно причисляли выпущенные той же A24 хиты режиссера Ари Астера «Реинкарнация» (2018) и «Солнцестояние» (2019). В «Реинкарнации» хроника отчуждения внутри одной семьи превращается в историю культистского заговора. В «Солнцестоянии» поиск себя и попытки проработать травму разворачиваются на фоне жертвоприношений и живописных пейзажей.


Кадр из фильма «Реинкарнация»
Image supplied by Capital Pictur / East News
Кадр из фильма «Солнцестояние»
Csaba Aknay / Capital Pictures / East News
Другими образцами возвышенного хоррора называли камерный австралийский «Бабадук» (2014) о монстре, с которым сталкивается лишившийся отца мальчик, и «Маяк» (2019) — сюрреалистическую фантасмагорию от режиссера «Ведьмы» Роберта Эггерса. Все они исследовали сложные темы — от личных травм до соотношения глобального и локального, феминного и патриархального, прогрессивного и традиционного. Все были сняты стильно — например, в черно-белом цвете или с минимумом диалогов. Вроде бы привычные для фильмов ужасов сюжеты в них сочетались с артхаусными приемами: нелинейной структурой, символизмом и отсылками к культуре, размеренным темпом повествования, глубокой проработкой персонажей. Просмотр таких картин часто требовал от зрителей интеллектуальных усилий.
Некоторые фанаты ужасов восприняли это явление с восторгом: хорроры наконец вышли из тени и удостоились заслуженного внимания зрителей и критиков. Их перестали считать чем-то вульгарным и вторичным, они начали претендовать на престижные награды и получать восторженные рецензии. Однако многие отнеслись к провозглашению постхоррора как отдельного поджанра скептически. Недовольные такой классификацией зрители критиковали ее за то, что она обесценивала все фильмы ужасов прошлых лет и подразумевала, что ужасы сами по себе, без приставки «пост-», не могут претендовать на звание «настоящего» кино.
Предвзятое отношение к хоррорам в середине и второй половине XX века отчасти сформировалось из-за их успешности. Производство таких фильмов иногда обходилось в копейки, а сборы в десятки раз превышали бюджет — всем хотелось увидеть, чем возмущаются поборники морали и противники «грязи» на экране. Из-за этого многие синефилы начали воспринимать хорроры как дешевый способ заработать, по умолчанию лишенный глубоких смыслов. В действительности же, как объясняли фанаты жанра, такое явление как «возвышенный ужас», существовало всегда — просто его не выделяли в отдельный поджанр, как это сделали критики в 2010-х.


Кадр из фильма «Маяк»
Кадр из фильма «Бабадук»
Everett Collection / East News
«Изгоняющего дьявола» Уильяма Фридкина, «Ребенка Розмари» Романа Полански, «Челюсти» Стивена Спилберга и «Муху» Дэвида Кроненберга едва ли можно назвать поверхностными. В них смелые режиссерские решения и высокохудожественный стиль сочетались с оригинальными идеями и скрытыми смыслами за несколько десятилетий до появления термина «постхоррор».
«Хоррором может называться не только низкобюджетное кровавое барахло, но и умное, выходящее за границы кино, которому трудно дать определение, — сказал режиссер Саймон Рамли. — Я бы поспорил, что „Уродцы“ 1932 года — это экстремальная драма, „Голова-ластик“ Дэвида Линча — артхаусный хоррор, как и „Святая кровь“ Алехандро Ходоровски. „Сияние“? Определенно артхаус. „Ребенок Розмари“? Возвышенное кино. „Тэцуо — железный человек“ Синьи Цукамото? Как насчет иностранного возвышенного артхауса? Но реальность такова, что все эти фильмы можно отнести к одному жанру. Они тревожные и бросают вызов аудитории, заставляя ее размышлять. В том или ином смысле все они являются хоррором».
Со временем многие критики разочаровались в разделении на «низкобюджетное кровавое барахло» и «возвышенные ужасы». В конце концов от него отказался даже придумавший его автор Стив Роуз, сказав, что оно слишком сужает жанр, прелесть которого заключается в разнообразии и способности постоянно придумывать себя заново, заходя на территорию то артхаусной драмы, то черной комедии.
Многие режиссеры продолжают снимать «постхорроры». Однако критики все реже пытаются делить ужасы на низкопробные и элитарные. «Возвышенный хоррор — это как чизбургер высокой кухни, — подвел черту под спором о жанровых классификациях киновед Мэтт Цоллер Сайтц. — Просто сделайте гребаный чизбургер. Если получится вкусно, всем будет плевать, каким прилагательным вы его опишете».