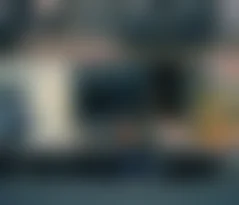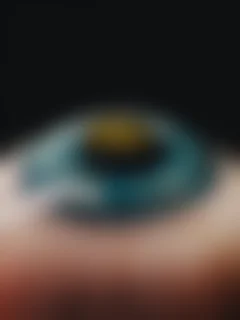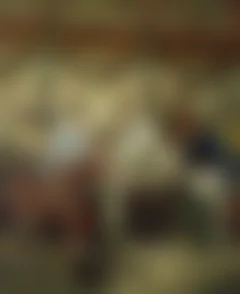Одна из самых популярных и вместе с тем расплывчатых мифологем в современной массовой культуре. Все слышали о ней, но мало кто может с уверенностью сказать, что она значит. Политики используют ее в популистских речах. Обыватели просто живут в цикле мечт и разочарований. А люди искусства пытаются заглянуть глубже, переосмыслить и развенчать легенду.
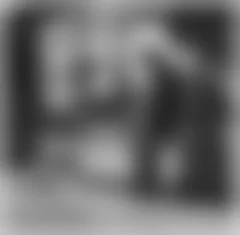
Dorothea Lange / Library of Congress
Удивительно, но эта идея родилась не в XVIII веке, с рождением Штатов, а в разгар Великой депрессии. Первым словосочетание использовал писатель и историк Джеймс Траслоу Адамс аж в 1931 году в своей книге «Эпос Америки». Изначально он даже хотел назвать свой труд «Американская мечта», но издатели побоялись, что в разгар экономического кризиса читатели посчитают такой заголовок злой насмешкой.
Американскую мечту Адамс определял как «мечту о социальном порядке, при котором каждый мужчина и каждая женщина должны быть способны достичь во всей полноте того, на что они способны, и о том, чтобы другие относились к ним по заслугам, независимо от места их рождения или положения в обществе».
Другое определение того же Адамса звучало так: «Мечта о лучшей, более богатой и счастливой жизни для всех наших граждан любого статуса». Иначе говоря, по версии автора, именно американская мечта как образ мысли превращала Штаты в «страну возможностей», где даже бедняк при должном усердии и амбициях мог добиться большего, чем богатый аристократ.
Самому Адамсу было легко рассуждать на тему равных возможностей. Он происходил из весьма обеспеченной нью-йоркской семьи и, прежде чем посвятить себя истории, приумножил состояние, занимаясь инвестициями. Большинство американцев в 1930-х действительно мечтали о лучшей жизни. Но, в отличие от Адамса, для них все оставалось недостижимой утопией.


Getty Images (2)
Эпидемия «испанки», Великая депрессия, войны в Корее и Вьетнаме, убийства обоих Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, спонсирование милитаристских диктатур в Латинской Америке, Уотергейтский скандал, приведший к отставке Никсона, ожесточенные расовые и политические распри на фоне циничных интриг (вроде соглашения администрации Рейгана о поставках вооружения в Иран в обход законодательного запрета) — большинство значимых событий в американской общественной жизни XX века кажутся насмешкой судьбы над наивными идеями Адамса. В период экономического бума после Второй мировой многие американцы прониклись концепцией счастливого процветающего общества. Но к началу 1970-х от этого оптимизма не осталось и следа.
Неудивительно, что именно тогда показывать упадок американской мечты с энтузиазмом начали многие творцы — писатели и режиссеры. Например, «Беспечный ездок» (1969) Денниса Хоппера — на поверхности беззаботное роуд-муви, но на самом деле душераздирающий портрет разобщенной страны. Ретрограды из глубинки враждуют с патлатыми неформалами, наркотики не приносят ни забвения, ни свободы, а волна насилия накрывает с головой.
А в 1974-м режиссер Тоуб Хупер напугал всю страну, показав в «Техасской резне бензопилой», как все те же социальные разрывы привели к череде жестоких убийств. Там, как и в «Беспечном ездоке», «городские» вступают в конфликт с реднеками-провинциалами, готовыми на все, лишь бы отстоять привычный уклад. Местечковые ценности и паранойя перед мнимыми угрозами оказываются намного важнее абстрактных идей о процветании нации, которые проповедовал Джеймс Адамс. Государство же выступает незримым архитектором этого хаоса, поскольку отсутствие социальной поддержки, нагнетаемый страх перед коммунистами и неспособность справиться с экономическим кризисом только усугубляют напряженность в обществе.



East News (3)
Стремление к выгоде плохо сочетается с верностью принципам и всеобщим счастьем. Это наглядно показывает в «Крестном отце — 2» (1974) Фрэнсис Форд Коппола. В продолжении гангстерского эпоса наследник мафиозной империи отца Майкл Корлеоне оказывается вовлечен в политические интриги на Кубе. Члены семьи и деловые партнеры предают друг друга, несмотря на негласный кодекс чести.
Погоня за внешними атрибутами успеха и материальным процветанием вытесняет и обесценивает все остальное. Именно об этом в злой сатире на бизнес-культуру 1980-х, романе «Американский психопат» (1991), написал Брет Истон Эллис. У него богатые упиваются успехом, наслаждаются вседозволенностью и буквально уничтожают всех, кто им не нравится. Такая реальность была совсем не похожа на американскую мечту Адамса, но во многом перекликалась с тем, что происходило в настоящих, а не книжных США.
Пока Эллис разоблачал корпоративную культуру крупных городов, еще один автор бестселлеров Стивен Кинг показывал, насколько далека от идеала жизнь в глубинке. Ложь, измены, нетерпимость — все эти вполне человеческие эмоции в книгах Короля ужасов отдаляют американское общество от всеобщего процветания точно так же, как монстры, оборотни и вампиры. Герои Кинга и других авторов второй половины XX века ощущают неустроенность от того, как сложилась их жизнь, и винят в этом других, а государство больше беспокоится об иллюзорной стабильности, чем о страданиях, вызванных увольнениями, переработками и прочими издержками капитализма.


East News (2)
До чего доводит такое устройство общества, демонстрирует в фильме 1993 года «С меня хватит!» режиссер Джоэл Шумахер. В нем герой Майкла Дугласа, безработный разведенный инженер, пытается добраться до дома дочери, чтобы отпраздновать ее день рождения, но встречает на своем пути всевозможные помехи: то ремонтники перекрыли дорогу, то парочка гопников пытается отобрать портфель, то в кафе отказываются подать завтрак. Доведенный неурядицами до нервного срыва обыватель берется за оружие и начинает крушить всех на своем пути. Гнев маленького человека у Шумахера получается почти поэтичным и звучит как похоронный марш для американской мечты.
Было бы неправильно говорить о критике как о феномене исключительно второй половины XX века. Фрэнсис Скотт Фицджеральд в 1925 году, то есть еще до выхода книги Адамса, показал в романе «Великий Гэтсби», что материальное благополучие порой не приносит никакого удовлетворения. Главный герой ради любви пробивается из низов и становится видной фигурой в богемных кругах, но все оказывается бесполезно: девушка, ради которой он все затеял, не хочет бросать мещанскую жизнь с мужем. Попытка Гэтсби использовать деловой успех как трамплин для личного счастья приносит лишь разочарование, а затем и вовсе приводит к гибели.

East News
Не приносит счастья богатство и главному герою «Гражданина Кейна» (1941) Орсона Уэллса. Он становится успешным медиамагнатом и зарабатывает состояние, но в процессе ссорится с любимой женщиной и друзьями. Стену между собой и всем миром он возводит до тех пор, пока не умирает в своем замке. Если судить исключительно по достижениям, то Кейн — воплощение американской мечты. Если оценивать не только карьерные триумфы, то жизнь влиятельного миллиардера никак нельзя назвать мечтой. Скорее — поиском чего-то неуловимого, для чего недостаточно лишь иметь крупный счет в банке.
В широком смысле американскую мечту критикуют любые фильмы, в которых у персонажей не получается приравнять материальный успех к счастью, а стабильность и благоустроенность оказываются иллюзорны. В роуд-муви «Маленькая мисс счастье» (2006) семейная поездка на детский конкурс красоты обнажает внутренние конфликты и личные проблемы каждого из родственников. В «Нефти» (2007) Пола Томаса Андерсона предприниматель Дэниел Плейнвью отталкивает от себя сына и остается одинок, как и Чарльз Фостер Кейн. Главная героиня «Земли кочевников» (2021) в исполнении Фрэнсис Макдорманд, получившей за эту роль «Оскар», попадает под сокращение и отправляется путешествовать, меняя работы и попутно пытаясь разобраться в себе и в мире.


East News (2)
Эти фильмы не относятся к одному жанру, отличаются по стилю и настроению. Пожалуй, главное, что их объединяет, — это уверенность их создателей в том, что счастье — понятие слишком сложное и индивидуальное, чтобы стремление к нему можно было провозгласить национальной идеологией.