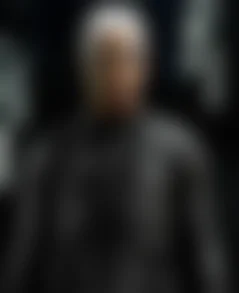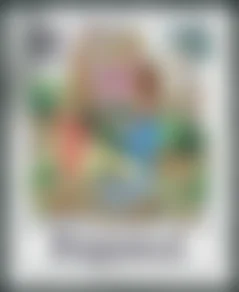Этих авторов либо почитают с благоговением, либо ненавидят и презирают. Почитают — за остроумный стиль, обилие культурных отсылок и философских рассуждений, наслоение смыслов и пересечение множества сюжетных линий. Презирают — за то же самое. Так кто же прав в ожесточенном споре о так называемом истерическом реализме?

East News
Писатель и критик Дейл Пек говорил, что литературный мир можно поделить на тех, кто считает Томаса Пинчона очень умным парнем, и тех, кто считает его не только умным парнем, но еще и отличным писателем. Сам Пек относил себя к первой категории. Он жаловался: «Произведения Пинчона напичканы идеями, но мне они кажутся скорее закусками из овощей, чем полноценным шведским столом. Аперитивы подают исправно, но до главного блюда так и не доходит».
Среди распространенных претензий к Пинчону — перескакивание с темы на тему, лирические отступления на десятки (если не сотни) страниц, туманные намеки и загадки без разгадок. Почитатели писателя отвечают, что в этом вся соль: в своем творчестве Пинчон в основном воплощал настроение, царившее в США 1960-х. А это космическая гонка, растущее недоверие к властям на фоне бесцельной бойни во Вьетнаме, страх перед сектами, экспериментами спецслужб, убийства обоих Кеннеди, Мартина Лютера Кинга и жесткие разгоны хиппи-пацифистов.
Эпоха, в которую Пинчон работал над своим magnum opus «Радуга тяготения», как будто сама навязывала автору сложный стиль. Даже если действие его книг происходит в другое время, по духу он всегда оставался писателем 1960-х с их абсолютной свободой, теориями заговора и атмосферой паранойи.
Типичный герой Пинчона — это человек, который по воле обстоятельств оказывается в центре чего-то большего. Это могут быть эксперименты по контролю сознания, строительство ракет или закулисная борьба двух почтовых служб, идущая уже не одно столетие. Любое случайное слово и даже надпись на двери туалета может быть шифром, каждый знакомый — информатором или угрозой. В произведениях Пинчона все всегда связано, даже если автор не говорит об этом напрямую.
Отсюда и еще один недостаток его книг, по версии хейтеров: нагнетая напряжение и интригу, он не дает никаких ответов. Произошло ли все описанное на самом деле? Или весь сюжет от начала до конца — кислотный трип оставшегося за кадром эпизодического персонажа? Пытаясь понять, что происходит в его книгах, читатели толпами закапываются в дискуссии на Reddit или в видеоразборы. Многие чувствуют себя обманутыми. Не для того они тратили время на здоровенный томище (российское издание «Радуги тяготения» — 928 страниц!), чтобы потом еще приходилось читать посты с пояснениями.
Для фанатов Пинчона возможность провалиться в черную дыру мыслей и углубиться в дискуссии на форумах — это, наоборот, едва ли не самая кайфовая часть всего процесса знакомства с книгой. На претензии они отвечают: конечно, книги, написанные в таком стиле, похожи на мешанину смыслов, но ведь и сама жизнь — мешанина смыслов!

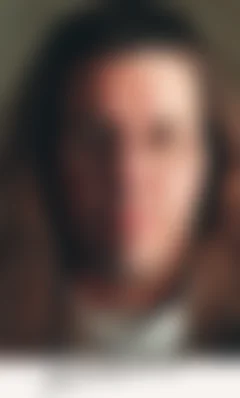
Томас Пинчон
Avalon / Legion Media
Дэвид Фостер Уоллес
Bruce Bisping / Star Tribune / Getty Images
Критики прозвали это «истерическим реализмом». Кроме Пинчона к нему относят Дона Делилло и Дэвида Фостера Уоллеса, у которых новые персонажи и сюжетные линии тоже десятками возникают как бы сами собой, так что читателю при упоминании очередной фамилии приходится «откатываться» на 200 страниц назад, чтобы понять, о ком вообще идет речь.
Те, кому не нравится такой стиль, считают его позерством, понтами и непрошенной попыткой показать свое интеллектуальное превосходство. Для любителей истерического реализма книги Пинчона и Уоллеса — это шанс зафиксировать мир во всей его сложности, вырвавшись из ограничений, навязанных клиповым мышлением. Да, читать такое бывает сложно. Но в интерпретации апологетов пинчеанства подобное чтение — сродни визионерскому опыту, когда привычные границы восприятия раздвигаются, и ты плывешь по течению, открывая новые стороны реальности.
В «Бесконечной шутке», главном художественном тексте Уоллеса, автор меняет стиль в зависимости от того, от чьего лица ведется повествование. Эрудированный тинейджер-теннисист щеголяет предложениями длиной в страницу, вставками на французском и познаниями в философии. А во время описаний наркотического трипа из текста исчезают знаки препинания. Здесь находится место формулам, спискам, сноскам… и сноскам к сноскам. Как и положено книге с таким названием, все это концептуальное пиршество не приходит ни к какому финалу. Роман просто заканчивается — к ярости сторонников линейного нарратива и четкой структуры.
Некоторые литературоведы сравнивают истерический реализм с интернетом. Мир таких произведений тоже часто похож на бесконечную сеть, полифонию, в которой вычленить отдельные голоса — это вызов и целое приключение. Говорящая собака, монахиня по имени Эдгар, которая может быть инкарнацией основателя ФБР, канадские сепаратисты-колясочники — во вселенной Пинчона, Уоллеса и их соратников не следует удивляться ничему. Чтение таких книг уже давно превратилось в негласный социальный маркер, признак особого взгляда на мир, ну или выпендреж, в случае тех, кто просто хочет приобщиться к «умной» литературе. Впрочем, таких читателей апостолы истерического реализма наверняка быстро отпугнут своими намеками между строк, изощренными словесными вывертами и беззастенчиво огромными объемами.
Недавно анонсированный новый роман 87-летнего Пинчона — уже претендент на главное литературное событие этого года. С его значимостью согласятся и фанаты писателя, и те, кого он откровенно бесит. Одни будут еще много десятилетий спорить о том, какие смыслы и идеи зашифровал загадочный гений в своем (почти наверняка) последнем произведении. Другие смогут с таким же упоением ругать писателя за то, что тот выкинул на витрины очередную изящную шкатулку-головоломку без содержимого.