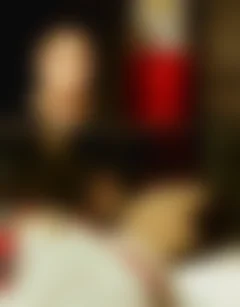10 минут в день
Рождественская песнь в прозе, 1843
Чарльз ДиккенсСТРОФА I
Дух Марли
Начнем с того, что Марли умер. В этом нет ни малейшего сомнения. Акт о его погребении был подписан пастором, причетником, гробовщиком и распорядителем похорон. Сам Скрудж подписал этот акт. А имя Скруджа служило ручательством на бирже за всё, к чему бы он ни приложил руку.
Итак, старик Марли был мертв, как дверной гвоздь.
Заметьте, — я не хочу сказать, будто я самолично убедился, что есть нечто особенно мертвое в дверном гвозде. Я-то склонен считать самой мертвой вещью из всех железных изделий скорее гробовой гвоздь. Но в сравнениях — мудрость отцов наших, и ради спокойствия отечества не подобает мне недостойными руками касаться их.
Позвольте же поэтому еще настойчивее повторить, что Марли был мертв именно как дверной гвоздь.
Знал ли Скрудж об этом? Разумеется, знал. Да и могло ли быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами в продолжение, я не знаю, скольких лет. Скрудж был его единственным душеприказчиком, единственным распорядителем, единственным преемником, единственным наследником, единственным другом и единственным поминальщиком. И однако Скрудж был вовсе не так ужасно поражен этим печальным событием, чтобы не остаться даже в самый день похорон истым дельцом и не ознаменовать его одной несомненно хорошей сделкой.
Но упоминание о похоронах Марли заставляет меня вернуться к тому, с чего я начал. Нет ни малейшего сомнения, что Марли умер. И этого никак нельзя забывать, иначе не будет ничего удивительного в истории, которую я намереваюсь рассказать. Ведь если бы мы не были твердо убеждены в том, что отец Гамлета умер до начала представления, то и его скитания по ночам, при восточном ветре, вдоль стен его же собственного замка были бы ничуть не замечательнее поступка любого господина средних лет, ночью вышедшего прогуляться куда-нибудь — ну, скажем, на кладбище св. Павла, — только затем, чтобы поразить своего слабоумного сына.
Скрудж не стер с вывески имя старика Марли: оно и после смерти его еще долго красовалось над дверью конторы: «Скрудж и Марли». Новички звали Скруджа иногда Скруджем, а иногда и Марли, и он отзывался, и на то, и на другое имя. О, это было совершенно безразлично для него, — для этого старого грешника и скряги, для этой жилы и паука, для этих завидущих глаз и загребущих рук! Твердый и острый, как кремень, из которого никакая сталь не выбивала никогда ни единой благородной искры, он был скрытен, сдержан и замкнут в самом себе, как устрица в своей раковине. Внутренний холод оледенил его поблекшие черты, заострил его нос, покрыл морщинами щеки, сделал походку мертвенной, глаза красными, тонкие губы синими, и резко сказывался в его скрипучем голосе. Точно заиндевели его голова, его брови, его колючий подбородок. Он вносил с собой этот холод повсюду; холодом дышала его контора — и такой же была она и в рождественские дни.
Окружающее мало влияло на Скруджа. Не согревало его лето, не знобила зима. Никакой ветер не был так лют, никакой дождь не был так упорен, как он, никакой снег не шел так упрямо, как шел Скрудж к своей цели, никакая адская погода не могла сломить его. Ливень, вьюга, град, крупа имели только одно преимущество перед ним. Они часто бывали щедры, Скрудж — никогда. Никогда и никто не останавливал его на улице радостным восклицанием: «Как поживаете, дорогой мой! Когда же вы заглянете ко мне?» Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руки, на один ребенок не решался спросить у него, который час, ни единая душа не осведомилась у него ни разу за всю его жизнь, как пройти на ту или другую улицу. Даже собаки слепцов, казалось, раскусили Скруджа и, завидя его, тащили своих хозяев под ворота и во дворы, виляли хвостами и как будто хотели сказать:
«Лучше вовсе не иметь глаз, хозяин, чем иметь такие глаза».
Но какое дело было до этого Скруджу? Это-то ему и нравилось. Пробираться по тесной жизненной тропе, пренебрегая всяким человеческим чувством, — вот что, по словам людей знающих, было, целью Скруджа.
Однажды — в один из лучших дней в году, в сочельник, — старый Скрудж работал в своей конторе. Стояла ледяная, туманная погода, и он слышал, как снаружи люди, отдуваясь, бегали взад и вперед, колотили себя руками и топали, стараясь согреться.
На городской башне только что пробило три часа, но было уже совсем темно: с самого утра стояли сумерки, и в окнах соседних контор красноватыми пятнами мерцали сквозь бурую мглу свечи. Туман проникал в каждую щель, в каждую замочную скважину, и был так густ, что противоположные дома казались призраками, хотя двор был очень узок. Глядя на это грязное облако, спускавшееся всё ниже и всё омрачавшее, можно было подумать, что природа на глазах у всех затевает что-то страшное, огромное.
Дверь своей комнаты Скрудж не затворял, чтобы иметь возможность постоянно наблюдать за своим помощником, переписывавшим письма в маленькой, угрюмой и сырой каморке рядом. Невелик был огонек в камине Скруджа, а у писца он был и того меньше: подкинуть угля нельзя было, — Скрудж держал угольный ящик в своей комнате. Как только писец брался за лопатку, Скрудж останавливал его замечанием, что им, кажется, придется скоро расстаться. И писец закутал шею своим белым шарфом и попытался было согреться у свечки, в чем, однако, не имея пылкого воображения, потерпел неудачу.
— С праздником, дядя, с радостью! Дай вам Бог всех благ земных! — раздался чей-то веселый голос.
То крикнул племянник Скруджа, так внезапно бросившийся ему на шею, что Скрудж только тут заметил его появление.
— Гм!.. — отозвался Скрудж. — Вздор!
Племянник так разгорячился от быстрой ходьбы по морозу и туману, что его красивое лицо пылало, глаза искрились, и от дыхания шел пар.
— Это Рождество-то вздор, дядя? — воскликнул он. — Вы, конечно, шутите?
— Нисколько, — сказал Скрудж. — С радостью! Какое ты имеешь право радоваться? Какое основание?
— Но тогда, — весело возразил племянник, — какое право имеете вы быть печальным? Какое основание имеете вы быть мрачным? Вы достаточно богаты.
Скрудж, не найдясь, что ответить, повторил только: «Гм!.. Вздор!»
— Не сердитесь, дядя! — сказал племянник.
— Как же мне не сердиться? — отозвался дядя, — когда я живу среди таких дураков, как ты? С радостью, с Рождеством! Отстань ты от меня со своим Рождеством! Что такое для тебя Рождество, как не время расплаты по счетам при совершенно пустом кармане, как не день, когда ты вдруг вспоминаешь, что постарел еще на год и не сделался богаче ни на йоту, как не срок подвести балансы и найти во всех графах, за все двенадцать месяцев дефицит? Будь моя воля, — продолжал Скрудж с негодованием, — я бы каждого идиота, бегающего с подобными поздравлениями, сварил бы вместе с его рождественским пудингом и воткнул бы в его могилу остролистовый кол! Непременно бы так и сделал!
— Дядя! — возразил племянник.
— Племянник! — перебил его Скрудж строго, — справляй Рождество по-своему, а мне позволь справлять его, как мне хочется.
— Справлять! — воскликнул племянник. — Но ведь вы его совсем не справляете.
— Ну, так и позволь мне совсем не справлять его, — сказал Скрудж. — А ты справляй себе на здоровье! Много пользы извлек ты из этих празднований!
— Мог бы извлечь, — отозвался племянник, — но смею сказать, что я никогда не стремился к этому. Я только всегда был убежден, всегда думал, что Рождество, помимо священных воспоминаний, если только можно отделить от него эти воспоминания — есть время хорошее, — время добра, всепрощения, милосердия, радости, единственное время во всем году, когда кажется, что широко раскрыто каждое сердце, когда считают каждого, даже стоящего ниже себя, равноправным спутником по дороге к могиле, а не существом иной породы, которому подобает идти другим путем. И поэтому, дядя, я верю, что Рождество, которое не принесло мне еще ни полушки, все-таки принесло и будет приносить много пользы, и говорю: да благословит его бог!
Писец в своей сырой каморке не выдержал и зааплодировал, но спохватился и стал мешать уголья в камине, причем погасил в нем и последнюю слабую искру.
— Еще один звук, — сказал Скрудж, — и вы отпразднуете ваше Рождество потерей места. — Вы выдающийся оратор, сэр, — прибавил он, обращаясь к племяннику. — Удивляюсь, почему вы не в парламенте.
— Не гневайтесь, дядя! Слушайте, приходите к нам завтра обедать.
Скрудж, в ответ на это, послал его к чёрту.
— Да что с вами? — воскликнул племянник. — За что вы сердитесь на меня?
— Зачем ты женился? — сказал Скрудж.
— Потому что влюбился.
— Потому что влюбился! — проворчал Скрудж таким тоном, точно это было еще более нелепо, чем поздравление с праздником. — До свиданья!
— Дядя, но вы ведь и до моей женитьбы никогда не заглядывали ко мне. Почему же вы ссылаетесь на это теперь?
— До свиданья! — сказал Скрудж.
— Но, ведь мне ничего не надо от вас, я ничего у вас не прошу, — почему же мы не можем быть друзьями?
— До свиданья! — повторил Скрудж.
— Мне от всей души жаль, что вы так упрямы. Между нами никогда не было никакой ссоры, виновником которой являлся бы я. Ради праздника я и теперь протянул вам руку и сохраню праздничное настроение до конца. С праздником, дядя, с праздником!
— До свиданья! — сказал Скрудж.
— И со счастливым новым годом!
— До свиданья! — сказал Скрудж.
Однако племянник вышел из конторы, так и не сказав ему ни единого неприятного слова. В дверях он остановился, чтобы поздравить и писца, который, хотя и окоченел, был все-таки теплее Скруджа и сердечно отозвался на приветствие.
— Вот еще такой же умник, — проговорил Скрудж, услышав это, — господин с жалованием в пятнадцать шиллингов в неделю, с супругой, детками, радующийся праздникам! Я, кажется, переселюсь в Бедлам!
А писец, затворяя дверь за племянником Скруджа, впустил еще двух господ. Это были почтенные, прилично одетые люди, которые, сняв шляпы, вошли в контору с книгами и бумагами и вежливо поклонились.
— Скрудж и Марли, не правда ли? — сказал один из них, справляясь со списком. — Я имею честь говорить с г. Скруджем или г. Марли?
— Г. Марли умер ровно семь лет тому назад, — возразил Скрудж. — Нынче как раз годовщина его смерти.
— Мы не сомневаемся, что его щедрость целиком перешла к пережившему его компаньону, — сказал господин, протягивая Скруджу подписной лист. И сказал совершеннейшую правду, ибо Скрудж и Марли стоили друг друга. При зловещем слове «щедрость» Скрудж нахмурился, покачал головой и подал лист обратно.
— В эти праздничные дни, — сказал господин, взяв перо в руки, — еще более, чем всегда, подобает нам заботиться о бедных и сирых, участь коих заслуживает теперь особенного сострадания. Тысячи людей терпят нужду в самом необходимом. Сотни тысяч лишены самых простых удобств.
— Разве нет тюрем? — спросил Скрудж.
— Их чересчур много, — сказал господин, снова кладя перо на стол.
— А работных домов? — продолжал Скрудж. — Разве они уже закрыты?
— Нет, — отозвался господин, — но об этом можно только сожалеть.
— Разве приюты и законы о призрении бедных бездействуют? — спросил Скрудж.
— Напротив, у них очень много работы.
— О! А я было испугался, заключив из ваших первых слов, что они почему-нибудь приостановили свою общеполезную деятельность. Очень рад слышать противное.
— Убеждение в том, что эти учреждения не оправдывают своего назначения и не дают должной пищи ни душе, ни телу народа, побудило нас собрать по подписке сумму, необходимую для приобретения бедным пищи, питья и топлива. Время праздников наиболее подходит для этой цели, ибо теперь бедняки особенно резко чувствуют свою нужду, люди же состоятельные менее скупятся. — Сколько прикажете записать от вашего имени?
— Ничего не надо писать, — ответил Скрудж.
— Вы желаете остаться неизвестным?
— Я желаю, чтобы оставили меня в покое, — сказал Скрудж. — Вот и всё. Со своей стороны, я содействую процветанию тех учреждений, о которых только что упоминал: они обходятся мне недешево; а посему пусть нуждающиеся отправляются туда.
— Многие из них охотнее умрут.
— И отлично сделают, — по крайней мере, этим они уменьшат избыток народонаселения. Впрочем, извините меня, я тут ни при чем.
— Но могли бы быть причем.
— Не мое это дело, — возразил Скрудж. — Для каждого вполне достаточно исполнять свои собственные дела и не вмешиваться в чужие. Я же и так неустанно забочусь о своих. До свиданья, господа.
Убедившись, что настаивать бесполезно, посетители удалились.
Довольный собой и в необычно шутливом настроении, Скрудж снова принялся за работу.
Между тем мрак и туман сделались так густы, что появились факельщики, предлагавшие освещать дорогу проезжавшим экипажам. Старинная церковная башня, с готической амбразуры которой всегда косился на Скруджа мрачный колокол, сделалась невидимой; колокол выбивал теперь часы и четверти где-то в облаках, и каждый удар его сопровождался дребезжанием, точно там, в вышине, стучали в чьей-то окоченевшей от холода голове зубы. Становилось всё холоднее. Против конторы Скруджа рабочие чинили газовые трубы, разведя большой огонь, и около него столпилась кучка оборванцев и мальчишек: они с наслаждением грели руки и мигали глазами перед пламенем. Водопроводный кран, который забыли запереть, изливал воду, превращавшуюся в лед. Свет из магазинов, в которых ветви и ягоды остролиста потрескивали от жары оконных ламп, озарял багрянцем лица проходящих. Лавки с битой птицей и овощами совершенно преобразились, представляя дивное зрелище, и трудно было поверить, что со всем этим великолепием связывалось такое скучное слово, как торговля.
Лорд-мэр в своем дворце отдавал приказания пятидесяти поварам и дворецким отпраздновать Рождество сообразно его сану. И даже маленький портной, которого он оштрафовал в прошлый понедельник на пять шиллингов за пьянство и буйство на улице, мастерил у себя на чердаке пудинг, в то время как его тщедушная жена, захватив с собой ребенка, пошла в мясную лавку.
Туман густел, холод становился всё более пронизывающим, колючим, нестерпимым. Если бы добрый св. Дунстан не своим обычным орудием, а этим холодом хватил бы по носу дьявола, тот наверное, взвыл бы как следует. Некий юный обладатель крохотного носика, до которого лютый мороз добрался, как собака до кости, прильнул к замочной скважине Скруджа с намерением пропеть Рождественскую песнь. Но при первых же звуках:
Пусть вас бог благословит,
Пусть ничто вас не печалит,…
Скрудж с такой энергией схватил линейку, что певец в ужасе бросился бежать, предоставляя замочную скважину туману и морозу, столь близкому душе Скруджа.
Наконец, наступил час запирать контору. С неохотой слез Скрудж со своего кресла, давая тем знак давно ожидавшему этой минуты писцу, что занятия кончены, и тот мгновенно потушил свечу и надел шляпу.
— Вы, вероятно, хотите освободиться от занятий на весь завтрашний день? — сказал Скрудж.
— Если это удобно, сэр.
— Это не только неудобно, это еще и несправедливо, — сказал Скрудж. — Ведь если бы я вычел в этот день полкроны, я убежден, что вы сочли бы себя обиженным.
Писец слабо улыбнулся.
— И однако, — сказал Скрудж, — вы и не думаете, что я могу быть обсчитан, платя вам даром жалование.
Писец заметил, что это бывает только раз в году.
— Слабое оправдание, чтобы тащить из моего кармана каждое двадцать пятое декабря, — сказал Скрудж, застегивая пальто вплоть до подбородка. — Но так и быть, весь завтрашний день в вашем распоряжении. Послезавтра утром приходите пораньше.
Писец пообещал, и Скрудж, ворча, вышел. Писец в одну минуту запер контору и, размахивая длиннейшими концами своего шарфа (пальто у него совсем не было), прокатился в честь Сочельника раз двадцать по льду в Корнгилле, вслед за шеренгой мальчишек и во весь дух пустился домой.
Скрудж съел свой скучный обед в своем скучном трактире, и, перечитав все газеты, скоротав остаток вечера за счетоводной книгой, отправился домой спать. Он жил там же, где когда-то жил его покойный компаньон. То была анфилада комнат в мрачном и громадном здании на заднем дворе, которое наводило на мысль, что оно попало сюда еще во дни своей молодости, играя в прятки с другими домами, да так там, и осталось, не найдя выхода.
Здание было старое и угрюмое. Никто, кроме Скруджа, не жил в нем, ибо все другие комнаты отдавались в наем под конторы. Двор был так темен, что даже Скрудж, отлично знавший каждый его камень, с трудом, ощупью, пробирался по нему. В морозном тумане, окутывавшем старинные черные ворота, чудился сам Гений Зимы, стороживший их в печальном раздумье.
Поистине, в молотке, висевшем у двери, не было ничего странного, разве только то, что он отличался большими размерами. Сам Скрудж видел его ежедневно утром и вечером, всё время своего пребывания здесь. Притом же Скрудж, как и все обитатели лондонского Сити, не исключая и старшин, и членов городского совета и цехов, — да простится мне великая дерзость! — не обладал ни малейшим воображением.
Не надо также забывать и того, что до сегодняшнего дня, когда Скрудж упомянул имя Марли, он ни разу не вспомнил своего усопшего друга.
А поэтому пусть, кто может, объяснит мне теперь, как произошло то, что, вкладывая ключ в замок, Скрудж увидел в молотке, хотя последний не подвергся ровно никакой перемене, лицо Марли.
Лицо Марли! Оно не было окутано темнотой, подобно другим предметам на дворе, но, окруженное зловещим сиянием, напоминало испорченного морского рака в темном погребе. Лицо не было сурово или искажено гневом, но было именно такое, как при жизни Марли, даже с его очками, приподнятыми на лоб. Волосы странно шевелились, точно от дуновения горячего воздуха, широко раскрытые и неподвижные глаза, свинцовый цвет лица, — всё это делало его ужасным; но главный ужас все-таки скрывался не в самом лице или выражении его, а в чем-то постороннем, непостижимом.
Видение тотчас же снова становилось молотком, как только Скрудж пристально вглядывался в него.
Было бы неправдой сказать, что Скрудж не испугался и не ощутил волнения, забытого им с самых детских лет. Однако после некоторого колебания он решительно взялся за ключ, крепко повернул его и, войдя в комнату, тотчас зажег свечу.
Помедлив в нерешительности несколько мгновений, прежде чем запереть дверь, он осторожно оглянулся, точно боясь увидеть за дверью косичку Марли. Но за дверью не было ничего, кроме винтов и гаек молотка. И, издав неопределенный звук, Скрудж крепко захлопнул дверь.
Стук, подобно грому, раскатился по всему дому. Каждая комната в верхнем этаже дома и каждая бочка в винном погребе ответили ему. Заперев дверь, Скрудж медленно прошел через сени вверх по лестнице, на ходу поправляя свечу.
По этой лестнице можно было бы провести погребальную колесницу, поставив ее поперек, дышлом к стене, а дверцами к перилам, причем осталось бы еще свободное пространство. Может быть, это и заставило Скруджа вообразить, что он видит во мраке погребальную колесницу, которая двигается сама собой. Полдюжина газовых фонарей с улицы слабо освещала сени и, следовательно, при свете сальной свечи Скруджа в них было довольно темно.
Скрудж шел вверх, мало беспокоясь об этом. Темнота стоит дешево, а это Скрудж очень ценил. Однако, прежде чем запереть за собой тяжелую дверь, он под влиянием воспоминания о лице Марли прошелся по комнатам — посмотреть, всё ли в исправности.
В гостиной, спальне, чулане всё было как следует: никого не было ни под столом, ни под диваном, маленький огонек тлел за решеткой камина. Вот ложка, кастрюлька с овсянкой, в устье камина, — и никого ни под постелью, ни в стенном шкафу, ни в шлафроке, как-то подозрительно висевшем на стене. Всё как всегда: чулан, каминная решетка, старые башмаки, две корзины для рыбы, умывальник на трех ножках, кочерга. Успокоившись, Скрудж запер дверь, повернув ключ два раза, чего прежде никогда не делал.
Предохранив себя таким образом от нападения, Скрудж снял галстук, надел шлафрок, туфли и ночной колпак и сел перед огнем, чтобы поесть овсянки.
Для такой лютой ночи этот огонек был чересчур мал. Скрудж должен был сесть очень близко к нему и нагнуться, чтобы от этой горсточки углей почувствовать едва уловимое дыхание теплоты.
Старинный камин, сложенный, вероятно, давным давно голландским купцом, был обложен голландскими кафелями, украшенными рисунками из св. Писания. Тут были Каин и Авель, дочери фараона, царица Савская, вестники-ангелы, парящие в воздухе на облаках, похожих на перины, Авраам, Валтасар и апостолы, отправляющиеся в плавание на лодках, напоминающих соусники, и сотни других забавных фигур. И однако лицо Марли, умершего семь лет тому назад, поглощало всё. Если бы каждый чистый кафель мог запечатлеть на своей поверхности образ, составленный из разрозненных представлений Скруджа, то на каждом таком кафеле появилось бы изображение головы старика Марли.
— Вздор всё это! — сказал Скрудж и, пройдясь по комнате взад и вперед, снова сел. Откинув голову на спинку стула, он случайно взглянул на старый, остававшийся без употребления колокольчик, предназначенный неизвестно для какой цели и проведенный в комнату в верхнем этаже дома. Смотря на него, Скрудж с безграничным удивлением и необъяснимым ужасом заметил, что колокольчик начал качаться. Сначала он качался так тихо, что звука почти не было, но потом зазвонил громче, и тотчас же к нему присоединились все колокольчики в доме.
Быть может, звон длился и не более минуты, но Скруджу эта минута показалась часом. Колокольчики замолкли все сразу, а вслед за ними откуда-то из глубины послышался шум, подобный лязгу тяжелой цепи, которую тащили по бочкам в винном погребе. Скрудж тотчас же припомнил те рассказы, в которых говорилось, что в тех домах, где водится нечистая сила, появлению духов сопутствует лязг влекомых цепей.
Дверь погреба распахнулась с глухим шумом настежь, и Скрудж услышал, как подземный шум, усиливаясь, поднимался вверх по лестнице, прямо по направлению к его двери.
— Всё это вздор! — сказал Скрудж. — Я не верю в эту чертовщину.
Однако он даже изменился в лице, когда дух, пройдя сквозь тяжелую дверь, очутился в комнате перед его глазами.
При его появлении едва тлевший огонек подпрыгнул, как будто хотел воскликнуть: «Я знаю его! Это дух Марли!» И точно — это было его лицо, сам Марли со своей косичкой, в своем обычном жилете, узких брюках и сапогах, с торчащими кисточками, которые шевелились так же, как его косичка, полы сюртука и волосы на голове. Цепь, которую он влачил за собой, опоясывала его. Она была длинна и извивалась, как хвост. Скрудж хорошо заметил, что она была сделана из денежных ящиков, ключей, висячих замков, счетных книг, разных документов и тяжелых стальных кошельков. Тело призрака было прозрачно, и Скрудж, зорко приглядевшись к нему, мог видеть сквозь жилет две пуговицы сзади на сюртуке.
Скрудж часто слышал, как говорили, что у Марли нет ничего внутри, но доныне он не верил этому. Не поверил даже и теперь, хотя дух был прозрачен и стоял перед ним. Что-то леденящее, чувствовал он, исходило от его мертвых глаз. Однако он хорошо заметил то, чего не замечал раньше, — ткань платка в складках, окутывавшего его голову и подбородок. Но всё еще не доверяя своим чувствам, он пытался бороться с ними.
— Что вам от меня нужно? — сказал Скрудж едко и холодно, как всегда. — Чего вы хотите?
— Многого! — ответил голос, голос самого Марли.
— Кто вы?
— Спросите лучше, кто я был?
— Кто вы были? — сказал Скрудж громче. — Для духа вы слишком требовательны. (Скрудж хотел было употребить выражение «придирчивы», как более подходящее).
— При жизни я был вашим компаньоном, Яковом Марли.
— Но, может быть, вы сядете? — спросил Скрудж, во все глаза глядя на него.
— Могу и сесть.
— Пожалуйста.
Скрудж сказал это, чтобы узнать, будет ли в состоянии призрак сесть; он чувствовал, что в противном случае предстояло бы трудное объяснение.
Но дух сел с другой стороны камина с таким видом, как будто делал это постоянно.
— Вы не верите в меня? — спросил дух.
— Не верю, — сказал Скрудж.
— Какого же иного доказательства, помимо ваших чувств, вы хотите, чтобы убедиться в моем существовании?
— Не знаю, — сказал Скрудж.
— Почему же вы сомневаетесь в своих чувствах?
— Потому, — сказал Скрудж, — что всякий пустяк действует на них. Маленькое расстройство желудка — и они уже обманывают. Может быть, и вы — просто недоваренный кусок мяса, немножко горчицы, ломтик сыра, гнилая картофелина. Дело-то, может быть, скорее сводится к какому-нибудь соусу, чем к могиле.
Скрудж совсем не любил шуток, и в данный момент ему нисколько не было весело, но он шутил для того, чтобы таким путем отвлечь свое внимание и подавить страх, ибо даже самый голос духа заставлял его дрожать до мозга костей. Для него было невыразимой мукой просидеть молча хотя бы одно мгновение, смотря в эти стеклянные, неподвижные глаза.
Но всего ужаснее была адская атмосфера, окружавшая призрак. Хотя Скрудж и не чувствовал ее, но ясно было видно, как у духа, сидевшего совершенно неподвижно, колебались, точно под дуновением горячего пара из печки, волосы, полы сюртука, косичка.
— Видите ли вы эту зубочистку, — сказал, Скрудж, быстро возвращаясь к нападению, побуждаемый теми же чувствами, и желая хоть на мгновение отвратить от себя взгляд призрака.
— Да, — ответил призрак.
— Но вы однако не смотрите на нее, — сказал Скрудж.
— Да, не смотрю, но вижу.
— Отлично, — сказал Скрудж. — Так вот, стоит мне проглотить ее и всю жизнь меня будет преследовать легион демонов, — плод моего воображения. Вздор! Повторяю, что всё это вздор!
При этих словах дух испустил такой страшный вопль и потряс цепью с таким заунывным звоном, что Скрудж едва удержался на стуле и чуть не упал в обморок. Но ужас его еще более усилился, когда дух снял со своей головы и подбородка повязку, точно в комнатах было слишком жарко, и его нижняя челюсть отвалилась на грудь.
Закрыв лицо руками, Скрудж упал на колени:
— Пощади меня, страшный призрак! Зачем ты тревожишь меня?
— Раб суеты земной, человек, — воскликнул дух, — веришь ли ты в меня?
— Верю, — сказал Скрудж. — Я должен верить. Но зачем духи блуждают по земле? Зачем они являются мне?
— Так должно быть, — возразил призрак, — дух, живущий в каждом человеке, если этот дух был скрыт при жизни, осужден скитаться после смерти среди своих близких и друзей и — увы! — созерцать то невозвратно потерянное, что могло дать ему счастье.
И тут призрак снова испустил вопль и потряс цепью, ломая свои бестелесные руки.
— Вы в цепях, — сказал Скрудж, дрожа. — Скажите, почему?
— Я ношу цепь, которую сковал при жизни, — ответил дух. — Я ковал ее звено за звеном, ярд за ярдом. Я ношу ее по своему доброму желанию. Неужели ее устройство удивляет тебя?
Скрудж дрожал всё сильнее и сильнее.
— Разве ты не желал бы знать длину и тяжесть цепи, которую ты носишь, — продолжал дух. — Она была длинна и тяжела семь лет тому назад, но с тех пор сделалась значительно длиннее. Она очень тяжела.
Скрудж посмотрел вокруг себя, нет ли и на нем железного каната в пятьдесят или шестьдесят сажен, но ничего не увидел.
— Яков, — воскликнул он. — Старый Яков Марли! Скажи мне что-нибудь в утешение. Яков!
— Это не в моей власти, — ответил дух. — Утешение дается не таким людям, как ты, и исходит от вестников иной страны, Эбензар Скрудж! Я же не могу сказать и того, что хотел бы сказать. Мне позволено очень немногое. Я не могу отдыхать, медлить, оставаться на одном и том же месте. Заметь, что во время моей земной жизни я даже мысленно не переступал границы нашей меняльной норы, оставаясь безучастным ко всему, что было вне ее. Теперь же передо мной лежит утомительный путь.
Всякий раз, как Скрудж задумывался, он имел обыкновение закладывать руки в карманы брюк. Обдумывая то, что сказал дух, он сделал это и теперь, но не встал с колен и не поднял глаз.
— Ты, должно быть, не очень торопился, — заметил Скрудж тоном делового человека, но покорно и почтительно.
— Да, — сказал дух.
— Ты умер семь лет тому назад, — задумчиво сказал Скрудж. — И всё время странствуешь?
— Да, — сказал дух, — странствую, не зная отдыха и покоя, в вечных терзаниях совести.
— Но быстро ли совершаешь ты свои перелеты? — спросил Скрудж.
— На крыльях ветра, — ответил дух.
— В семь лет ты мог облететь бездны пространства, — сказал Скрудж.
Услышав это, дух снова испустил вопль и так страшно зазвенел цепью в мертвом молчании ночи, что полицейский имел бы полное право обвинить его в нарушении тишины и общественного спокойствия.
— О, пленник, закованный в двойные цепи, — воскликнул призрак, — и ты не знал, что потребны целые годы непрестанного труда существ, одаренных бессмертной душой для того, чтобы на земле восторжествовало добро. Ты не знал, что для христианской души на ее тесной земной стезе жизнь слишком коротка, чтобы сделать всё добро, которое возможно? Не знал, что никакое раскаяние, как бы продолжительно оно ни было, не может вознаградить за прошедшее, не может загладить вины того, кто при жизни упустил столько благоприятных случаев, чтобы творить благо? Однако я был таким, именно таким.
— Но ты всегда был отличным дельцом, — сказал Скрудж, начиная применять слова духа к самому себе.
— Дельцом! — воскликнул дух, снова ломая руки. — Счастье человеческое должно было быть моей деятельностью, любовь к ближним, милосердие, кротость и доброжелательство — на это, только на это должна была бы быть направлена она. Дела должны были бы быть только каплей в необъятном океане моих обязанностей.
И он вытянул цепь во всю длину распростертых рук, точно она была причиной его теперь уже бесполезной скорби, и снова тяжко уронил ее.
— Теперь, на исходе года, — продолжал он, — мои мучения стали еще горше. О, зачем я ходил в толпе подобных мне с опущенными глазами и не обратил их к благословенной звезде, приведшей волхвов к вертепу нищих! Разве не было вертепов нищих, к которым ее свет мог привести и меня!
Пораженный Скрудж, слушая это, задрожал всем телом.
— Слушай, слушай меня, — вскричал дух, — срок мой краток.
— Я слушаю, — сказал Скрудж, — но прошу тебя, Яков, не будь так жесток ко мне и говори проще.
— Как случилось, что я являюсь перед тобой в таком образе, я не знаю. Я ничего не могу сказать тебе об этом. Много, много дней я пребывал невидимым возле тебя.
Эта новость была не весьма приятна Скруджу. Он отер пот со лба.
— Наказание мое было еще тяжелее от этого, — продолжал дух. — Сегодня ночью я здесь затем, чтобы предупредить тебя, что ты, Эбензар, имеешь еще возможность при моей помощи избежать моей участи.
— Благодарю тебя. Ты всегда был моим лучшим другом.
— К тебе явятся три духа, — сказал призрак.
Лицо Скруджа вытянулось почти так же, как духа.
— Это и есть та возможность, о которой ты говоришь, Яков? — спросил Скрудж прерывающимся голосом.
— Да.
— По-моему, — сказал Скрудж, — лучше, если бы не было совсем этой возможности!
— Без посещения духов ты не можешь избежать того пути, по которому шел я. Жди первого духа завтра, как только ударит колокол.
— Не могут ли они придти все сразу? — попробовал было вывернуться Скрудж.
— Второго духа ожидай в следующую ночь в этот же самый час. В третью ночь тебя посетит третий дух, когда замолкнет колокол, отбивающий полночь. Не смотри так на меня и запомни наше свидание. Ради твоего собственного спасения, ты более не увидишь меня.
Произнеся эти слова, дух снова взял со стола платок и повязал его вокруг головы. По стуку зубов Скрудж понял, что челюсти его снова сомкнулись. Он решился поднять глаза и увидел, что неземной гость стоит перед ним лицом к лицу; цепь обвивала его стан и руки.
Призрак стал медленно пятиться назад, к окну, которое при каждом его шаге понемногу растворялось, а когда призрак достиг окна, оно широко распахнулось. Призрак сделал знак, чтобы Скрудж приблизился, — и Скрудж повиновался.
Когда между ними осталось не более двух шагов, дух Марли поднял руку, запретив ему подходить ближе. Побуждаемый скорее страхом и удивлением, чем послушанием, Скрудж остановился, и в ту же минуту, как только призрак поднял руку, в воздухе пронесся смутный шум — бессвязный ропот, плач, стоны раскаяния, невыразимо скорбный вопль. Послушав их мгновение, призрак присоединил свой голос к этому похоронному пению и стал постепенно растворяться в холодном мраке ночи.
Скрудж последовал за ним к окну: так непобедимо было любопытство. И выглянул из окна.
Всё воздушное пространство наполнилось призраками, тревожно метавшимися во все стороны и стенающими. На каждом призраке была такая же цепь, как и на духе Марли. Ни одного не было без цепи, а некоторые, — быть может, преступные члены правительства, — были скованы вместе. Многих из них Скрудж знал при жизни. Например, он отлично знал старого духа в белом жилете, тащившего за собой чудовищный железный ящик, прикованный к щиколотке. Призрак жалобно кричал, не будучи в состоянии помочь несчастной женщине с младенцем, сидевшем внизу, на пороге двери. Было ясно, что самые ужасные муки призраков заключались в том, что они не были в силах сделать то добро, которое хотели бы сделать.
Туман ли окутал призраки или они растаяли в тумане, Скрудж не мог бы сказать уверенно. Но вот голоса их смолкли, все сразу, и ночь опять стала такой же, какой была при возвращении Скруджа домой.
Скрудж запер окно и осмотрел дверь, через которую вошел дух. Она была заперта на двойной замок, повешенный им же самим, задвижка осталась нетронутой. Он попытался было сказать «вздор», но остановился на первом же слоге, и от волнений ли, которые он испытал, от усталости ли, оттого ли, что заглянул в неведомый мир или же вследствие разговора с духом, позднего часа, потребности в отдыхе, но он тотчас же подошел к кровати и мгновенно, даже не раздеваясь, заснул.
СТРОФА II
Первый дух
Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из алькова, он едва мог отличить прозрачное пятно окна от темных стен своей комнаты. Он зорко всматривался в темноту своими острыми, как у хорька, глазами, и слушал, как колокола на соседней церкви отбивали часы.
К его великому изумлению, тяжелый колокол ударил шесть раз, потом семь, восемь и так до двенадцати; затем всё смолкло. Двенадцать! А когда он ложился, был ведь третий час. Очевидно, часы шли неправильно. Должно быть, ледяная сосулька попала в механизм. Двенадцать! Он дотронулся до пружины своих часов с репетицией, чтобы проверить те нелепые часы. Маленький быстрый пульс его часов пробил двенадцать и остановился.
— Как! Этого не может быть! — сказал Скрудж, — не может быть, чтобы я проспал весь день да еще и порядочную часть следующей ночи! Нельзя же допустить, чтобы что-нибудь произошло с солнцем и чтобы сейчас был полдень!
С этой тревожной мыслью он слез с кровати и ощупью добрался до окна. Чтобы увидеть что-нибудь, он был принужден рукавом своего халата протереть обмерзшее стекло. Но и тут он увидел немного! Он убедился только в том, что было очень тихо, туманно и чрезвычайно холодно. На улицах не было обычной суеты, бегущих пешеходов, что всегда бывало, когда день побеждал ночь и овладевал миром.
Скрудж снова лег в постель, предаваясь размышлениям о случившемся, но не мог прийти ни к какому определенному решению. Чем более он думал, тем более запутывался и чем более старался не думать, тем более думал.
Дух Марли окончательно сбил его с толку. Как только, после зрелого размышления, он решал, что всё это был сон, его мысль, подобно отпущенной упругой пружине, отлетала назад к первому положению, и снова предстояло решить: был ли это сон или нет?
В таком состоянии Скрудж лежал до тех пор, пока колокола не пробили еще три четверти и он вдруг не вспомнил, что, согласно предсказанию Марли, первый дух должен явиться, когда колокол пробьет час. Он решил не спать и дождаться часа. Такое решение было, конечно, самое благоразумное, так как заснуть для него было теперь так же невозможно, как подняться на небо.
Время шло так медленно, что Скрудж подумал, что, задремав, он пропустил бой часов. Наконец, до его насторожившегося слуха донеслось:
— Динь-дон!
— Четверть, — сказал Скрудж, начиная считать.
— Динь-дон!
— Половина, — сказал Скрудж.
— Динь-дон!
— Три четверти, — сказал Скрудж.
— Динь-дон!
— Вот и час, — сказал Скрудж, — и ничего нет.
Он произнес эти слова прежде, чем колокол пробил час, — пробил как-то глухо, пусто и заунывно. В ту же минуту комната озарилась светом, и точно чья-то рука раздвинула занавески его постели в разные стороны, и именно те занавески, к которым было обращено его лицо, а не занавески в ногах или сзади. Как только они распахнулись, Скрудж приподнялся немного и в таком положении встретился с неземным гостем, который, открывая их, находился так близко к нему, как я в эту минуту мысленно нахожусь возле вас, читатель.
Это было странное существо, похожее на ребенка и вместе с тем на старика, ибо было видимо сквозь какую-то сверхъестественную среду, удалявшую и уменьшавшую его. Его волосы падали на плечи, были седы, как у старца, но на нежном лице его не было ни единой морщины. Руки его были очень длинны, мускулисты, и в них чувствовалась гигантская сила. Ноги и ступни имели изящную форму и были голы, как руки. Он был облечен в тунику ослепительной белизны, а его стан был опоясан перевязью, сиявшей дивным блеском. В его руке была ветвь свежезеленого остролистника, — эмблема зимы, — одежда же была украшена летними цветами. Но всего удивительнее было то, что от венца на его голове лились потоки света, ярко озарявшие всё вокруг, и, очевидно, для этого-то света предназначался большой колпак-гасильник, который дух держал под мышкой, чтобы употреблять его, когда хотел сделаться невидимым.
Когда же Скрудж стал пристальнее присматриваться к призраку, то заметил еще более странные особенности его. Пояс призрака искрился и блестел то в одной части, то в другой, и то, что сейчас было ярко освещено, через мгновение становилось темным, и вся фигура призрака ежесекундно менялась: то он имел одну руку, то одну ногу, то был с двадцатью ногами, то с двумя ногами без головы, то была голова, но без туловища: то та, то другая часть его бесследно исчезала в густом мраке. Но еще удивительнее было то, что порой вся фигура призрака становилась ясной и отчетливой.
— Вы тот дух, появление которого было мне предсказано? — спросил Скрудж.
— Да.
Голос у духа был мягкий, нежный и такой тихий, что, казалось, доносился издалека, хотя дух находился возле самого Скруджа.
— Кто вы? — спросил Скрудж.
— Я дух минувшего Рождества.
— Давно минувшего? — спросил Скрудж, рассматривая его.
— Нет, твоего последнего.
Может быть, Скрудж и сам не знал, почему у него явилось странное желание видеть духа в колпаке-гасильнике, но он все-таки попросил духа надеть колпак.
— Как! — воскликнул Дух. — Ты уже так скоро пожелал своими бренными руками погасить тот свет, который я распространяю? Тебе мало, что ты один из тех рабов страстей, ради которых я принужден долгие годы носить этот колпак, низко надвинув его на лоб?
Скрудж почтительно ответил, что вовсе не хотел его обидеть, что он никак не может понять, каким образом он мог служить причиной, заставившей духа носить колпак. Затем он осмелился спросить, что именно привело его сюда?
— Твое благополучие, — сказал дух.
Скрудж поблагодарил, но не мог удержаться от мысли, что спокойно проведенная ночь более способствовала бы этому благополучию. Но дух понял его мысль, ибо тотчас же сказал:
— И твое спасение.
Сказав это, он протянул свою сильную руку и ласково коснулся Скруджа.
— Встань и следуй за мной.
Скрудж чувствовал, что было бы бесполезно сказать что-нибудь в свое оправдание, что дурная погода и поздний час не годятся для прогулок, что в постели тепло, а термометр стоит ниже нуля, что он слишком легко одет, — в туфлях, шлафроке и ночном колпаке, — и что он нездоров. Хотя прикосновение духа было нежно, как прикосновение руки женщины, оно однако не допускало сопротивления. И Скрудж встал, но, увидев, что дух направился к окну, схватил его за одежду.
— Я ведь смертный, — сказал он умоляющим голосом, — и могу упасть.
— Позволь только моей руке прикоснуться к тебе, — сказал дух, кладя свою руку на сердце Скруджа, — и ты будешь вне всякой опасности.
Произнеся эти слова, дух повел Скруджа сквозь стену, и они очутились за городом на дороге, по обеим сторонам которой тянулись поля. Город исчез за ними совершенно бесследно, а вместе с ним исчезли и туман и мрак. Был ясный, холодный зимний день, и земля была одета снежным покровом.
— О Боже! — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и осматриваясь кругом. — Здесь, в этом месте, я родился. Здесь я рос.
Дух кротко посмотрел на него. Нежное прикосновение его, тихое и мимолетное, тронуло старое сердце. Скрудж ощутил тысячу запахов в воздухе, из которых каждый был связан с тысячью мыслей, радостей, забот и надежд, давно, давно забытых.
— Твои губы дрожат, — сказал дух. — Что такое на твоей щеке?
Запинающимся голосом Скрудж проговорил, что это прыщик, и просил духа вести его туда, куда он захочет.
— Припоминаешь ли ты эту дорогу? — спросил дух.
— О, да, — с жаром произнес Скрудж. — Я прошел бы по ней с завязанными глазами.
— Странно. Прошло так много лет, а ты еще не забыл ее, — заметил дух. — Идем.
Они пошли. Скрудж узнавал каждые ворота, каждый столб, каждое дерево. Вдали показалось маленькое местечко с церковью, мостом и извивами реки. Они увидели несколько косматых пони, бегущих рысью по направлению к ним; на пони сидели мальчики, которые перекликались с другими мальчиками, сидевшими рядом с фермерами в больших одноколках и тележках. Все были веселы и, перекликаясь, наполняли звонкими голосами и смехом широкий простор полей.
— Это только тени прошлого, — сказал дух. — Они не видят и не слышат нас.
Когда веселые путешественники приблизились, Скрудж стал узнавать и каждого из них называть до имени. Почему он был так несказанно рад, видя их, почему блестели его холодные глаза, а сердце так сильно билось? Почему сердце наполнилось умилением, когда он слышал, как они поздравляли друг друга с праздником, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь в разные стороны? Что за дело было Скруджу до веселого Рождества? Прочь эти веселые праздники! Какую пользу они принесли ему?
— Школа еще не совсем опустела, — сказал дух. — Там есть заброшенный, одинокий ребенок.
Скрудж сказал, что знает его, — и зарыдал.
Они свернули с большой дороги на хорошо памятную ему тропу и скоро приблизились к дому из потемневших красных кирпичей с небольшим куполом и колоколом в нем, с флюгером на крыше. Это был большой, но уже начавший приходить в упадок дом. Стены обширных заброшенных служб были сыры и покрыты мхом, окна разбиты и ворота полуразрушены временем. Куры кудахтали и расхаживали в конюшнях, каретные сараи и навесы зарастали травой. Внутри дома также не было прежней роскоши; войдя в мрачные сени сквозь открытые двери, они увидели много комнат, пустых и холодных, с обломками мебели. Затхлый запах сырости и земли носился в воздухе, всё говорило о том, что обитатели дома часто недосыпают, встают еще при свечах и живут впроголодь.
Дух и Скрудж прошли через сени к дверям во вторую половину дома. Она открылась, и их взорам представилась длинная печальная комната, которая, от стоявших в ней простых еловых парт, казалась еще пустыннее. На одной из парт, около слабого огонька, сидел одинокий мальчик и читал. Скрудж опустился на скамью и, узнав в этом бедном и забытом ребенке самого себя, заплакал.
Таинственное эхо в доме, писк и возня мыши за деревянной обшивкой стен, капанье капель из оттаявшего жолоба, вздохи безлистого тополя, ленивый скрип качающейся двери в пустом амбаре и потрескивание в камине — всё это отзывалось в сердце Скруджа и вызывало слезы.
Дух, прикоснувшись к нему, показал на его двойника, — маленького мальчика, погруженного в чтение. Внезапно за окном появился кто-то в одежде чужестранца, явственно, точно живой, с топором, засунутым за пояс, ведущий осла, нагруженного дровами.
Это Али-баба! — воскликнул Скрудж в восторге. — Добрый, старый, честный Али-баба, я узнаю его. Да! Да! Как-то на Рождестве, когда вот этот забытый мальчик оставался здесь, один, он, Али-баба, явился перед ним впервые точно в таком же виде, как теперь. Бедный мальчик! А вот и Валентин, — сказал Скрудж, — и дикий брат его Орзон, вот они! А как зовут того, которого, сонного, в одном белье, перенесли к воротам Дамаска? Разве ты не видал его? А слуга султана, которого духи перевернули вниз головой, — вон и он стоит на голове! Поделом ему! Не женись на принцессе!
Как удивились бы коллеги Скруджа, услышав его, увидев его оживленное лицо, всю серьезность своего характера, расточающего на такие пустые предметы и говорящего совсем необычным голосом, голосом, похожим и на смех и на крик.
— А вот и попугай! — воскликнул Скрудж, — зеленое туловище, желтый хвост и на макушке хохол, похожий на лист салата! Бедный Робинзон Крузо, как он назвал Робинзона, когда тот возвратился домой, после плавания вокруг острова. «Бедный Робинзон Крузо, — где был ты, Робинзон Крузо?» Робинзон думал, что слышит это во сне, но, как известно, кричал попугай. А вот и Пятница, спасая свою жизнь, бежит к маленькой бухте! Голла! Гоп! Голла!
Затем, с быстротой, совсем несвойственной его характеру, Скрудж перебил самого себя, с грустью о самом себе воскликнул: «Бедный мальчик!» — и снова заплакал.
— Мне хочется, — пробормотал Скрудж, отирая обшлагом глаза, закладывая руки в карманы и осматриваясь, — мне хочется… но нет, уже слишком поздно…
— В чем дело? — спросил дух.
— Так, — отвечал Скрудж. — Ничего. Прошлым вечером к моей двери приходил какой-то мальчик и пел, так вот мне хотелось бы дать ему что-нибудь… Вот и всё.
Дух задумчиво улыбнулся, махнул рукой и сказал: «Идем, взглянем на другой праздник!»
При этих словах двойник Скруджа увеличился, а комната сделалась темнее и грязнее; обшивка ее потрескалась, окна покосились, с потолка посылалась штукатурка, обнаруживая голые дранки. Но как это случилось, Скрудж знал не лучше нас с вами. Однако он знал, что это так и должно быть, — чтобы он снова остался один, а другие мальчики ушли домой с радостью встречать праздник.
Он уже не читал, но уныло ходил взад и вперед. Посмотрев на духа, Скрудж печально покачал головой и беспокойно взглянул на дверь.
Дверь растворилась, и маленькая девочка, гораздо меньше мальчика, вбежала в комнату и, обвив его шею ручонками, осыпая его поцелуями, называла его милым, дорогим братом.
— Я пришла за тобой, милый брат, — сказала она. — Мы вместе поедем домой, — говорила она, хлопая маленькими ручками и приседая от смеха. — Я приехала, чтобы взять тебя домой, домой, домой!
— Домой, моя маленькая Фанни? — воскликнул мальчик.
— Да, — сказала в восторге девочка. — Домой навсегда, навсегда! Папа стал гораздо добрее, чем прежде, и у нас дома, как в раю. Однажды вечером, когда я должна была идти спать, он говорил со мной так ласково, что я осмелилась попросить его послать меня за тобой в повозке. Он ответил: «Хорошо», — и послал меня за тобой в повозке. Ты теперь будешь настоящий мужчина, — сказала девочка, раскрывая глаза,—и никогда не вернешься сюда. Мы будем веселиться вместе на праздниках.
— Ты говоришь совсем, как взрослая, моя маленькая Фанни, — воскликнул мальчик.
Она захлопала в ладоши, засмеялась, стараясь достать до его головы, приподнялась на цыпочки, обняла его и снова засмеялась. Затем, с детской настойчивостью, она стала тащить его к двери, и он, не сопротивляясь, последовал за ней.
Какой-то страшный голос послышался в сенях: «Снесите вниз сундук Скруджа». Появился сам школьный учитель, который, посмотрев сухо и снисходительно на Скруджа, привел его в большое смущение пожатием руки. Затем он повел его вместе с сестрой в холодную комнату, напоминающую старый колодезь, где на стене висели ландкарты, а земной и небесный глобусы, стоявшие на окнах и обледеневшие, блестели, точно натертые воском. Поставив на стол графин очень легкого вина, положив кусок очень тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться. А худощавого слугу он послал предложить стакан этого вина извозчику, который поблагодарил и сказал, что если это вино то самое, которое он пил в прошлый раз, то он отказывается от него. Между тем чемодан Скруджа был привязан к крыше экипажа, и дети, радостно простясь с учителем, сели и поехали; быстро вертевшиеся колеса сбивали иней и снег с темной зелени деревьев.
— Она всегда была маленьким, хрупким существом, которое могло убить дуновение ветра, — сказал дух. — Но у нее было большое сердце!
— Да, это правда, — воскликнул Скрудж. — Ты прав. Я не отрицаю этого, дух. Нет, боже меня сохрани!
— Она была замужем, — сказал дух, — и, кажется, у нее были дети.
— Один ребенок, — сказал Скрудж.
— Да, твой племянник, — сказал дух.
Скрудж смутился; и кратко ответил: «Да».
Прошло не более мгновения с тех пор, как они оставили школу, но они уже очутились в самых бойких улицах города, где, как призраки, двигались прохожие, ехали тележки и кареты, перебивая путь друг у друга, — в самой сутолоке большого города. По убранству лавок было видно, что наступило Рождество. Был вечер, и улицы были ярко освещены. Дух остановился у двери какого-то магазина и спросил Скруджа, знает ли он это место?
— Еще бы, — сказал Скрудж. — Разве не здесь я учился?
Они вошли. При виде старого господина в парике, сидящего за высоким бюро, который, будь он выше на два дюйма, стукался бы головой о потолок, Скрудж, в сильном волнении, закричал:
— О, да это сам старик Феззивиг! Сам Феззивиг воскрес из мертвых!
Старик Феззивиг положил перо и посмотрел на часы, — часы показывали семь. Он потер руки, оправил широкий жилет, засмеялся, трясясь всем телом и крикнул плавным, звучным, сдобным, но приятным и веселым голосом.
— Эй, вы, там! Эбензар! Дик!
Двойник Скруджа, молодой человек, живо явился, в сопровождении товарища, на зов.
— Так и есть, — Дик Вилкинс, — сказал Скрудж духу. — Это он. Дик очень любил меня. Дик, голубчик! Боже мой!
— Эй, вы, молодцы! — сказал Феззивиг. — Шабаш! На сегодня довольно! Ведь сегодня сочельник, Дик! Рождество завтра, Эбензар! Запирай ставни! — вскричал старик Феззивиг, громко хлопнув в ладоши. — Мигом! Живо!
Трудно себе представить ту стремительность, с какой друзья бросились на улицу со ставнями. Вы не успели бы сказать: «Раз, два, три», — как уже ставни были на своих местах, вы не дошли бы еще до шести, как уж были заложены болты, вы не досчитали бы до двенадцати, как молодцы уже вернулись в контору, дыша, точно скаковые лошади.
— Ну! — закричал Феззивиг, с удивительной ловкостью соскакивая со стула возле высокой конторки. — Убирайте всё прочь, чтобы было как можно больше простора. Гоп! Гоп, Дик! Живей, Эбензар!
Всё долой! Всё было сделано в одно мгновение. Всё, что возможно, было мгновенно убрано и исчезло с глаз долой. Пол был подметен и полит водой, лампы оправлены, в камин подброшен уголь, и магазин стал уютен, тепел и сух, точно бальный зал.
Пришел скрипач с нотами, устроился за конторкой и загудел, как полсотня расстроенных желудков. Пришла мистрис Феззивиг, сплошная добродушная улыбка. Пришли три девицы Феззивиг, цветущие и хорошенькие. Пришли шесть юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые люди и женщины, служившие у Феззивига. Пришла служанка со своим двоюродным братом, булочником. Пришла кухарка с молочником, закадычным приятелем ее брата. Пришел мальчишка, живущий в доме через улицу, которого, как думали, хозяин держал впроголодь. Мальчишка старался спрятаться за девочку из соседнего дома, уши которой доказывали, что хозяйка любила драть их. Все вошли друг за другом — одни застенчиво, другие смело, одни — ловко, другие неуклюже; одни толкая, другие таща друг друга; но все, как-никак, все-таки вошли. И все разом, все двадцать пар, пустились танцевать, выступая вперед, отступая назад, проделывая, пара за парой, самые разнообразные фигуры. Наконец, старик Феззивиг захлопал в ладоши и, желая остановить танец, воскликнул: «Ловко! Молодцы!» Скрипач погрузил разгоряченное лицо в кружку портера, предназначенную для него. Потом, пренебрегая отдыхом, он снова появился на своем месте и тотчас же начал играть, — хотя желающих танцевать еще не было, — с таким видом, точно прежнего истомленного скрипача отнесли домой на ставне, а это был новый, решившийся или превзойти того, или погибнуть.
Потом опять были танцы, дальше игра в фанты и опять танцы. Напоследок подали пирожное, глинтвейн, большой кусок холодного ростбифа, кусок холодной вареной говядины, пирожки и пиво, пиво… Но главный эффект вечера был после жаркого и вареной говядины, когда скрипач (хитрая бестия, — он знал дело гораздо лучше нас с вами!) ударил «Сэр Роджер де-Коверли». Тут старик Феззивиг с мистрис Феззивиг выступили вперед, приготовляясь начать танец, и притом первой парой; но ведь это не шутка! Ведь приходилось танцевать с двадцатью тремя-четырьмя парами, — с народом, который вовсе не намеревался шутить, с народом, который хотел пуститься в пляс вовсю, а не прохаживаться.
Но если бы их было вдвое более, вчетверо даже; все-таки старик Феззивиг и мистрис Феззивиг были бы на высоте своей задачи. Мистрис Феззивиг была достойной партнершей своего мужа во всех отношениях. Если же эта похвала недостаточна, скажите мне более высокую, и я охотно употреблю ее. Положительно какой-то свет брызгал от икр Феззивига! Они сверкали во всякой фигуре танца. В какой-нибудь один момент вы ни за что не угадали бы, что будет в следующий! И когда старик Феззивиг и мистрис Феззивиг проделали все па: «Вперед, назад, обе руки вашему партнеру, поклон, реверанс, штопор, продевание нитки в иголку, и назад, на свое место», — Феззивиг подпрыгнул так, что, казалось, его ноги мигнули, и стал как вкопанный.
Когда часы пробили одиннадцать, семейный бал кончился, мистер Феззивиг с супругой заняли места по обеим сторонам двери, и, пожимая руки выходившим гостям, желали им весело провести праздник. Когда все, кроме двух учеников, ушли, хозяева точно так же простились и с ними. Веселые голоса замерли, и юноши разошлись по своим кроватям в задней комнате.
Всё это время Скрудж вел себя как человек, который не в своем рассудке. Его душа была погружена в созерцание своего двойника. Он смотрел, вспоминал, радовался всему и испытывал странное возбуждение. И только теперь, когда ясные лица его двойника и Дика отвернулись от него, он вспомнил про духа и почувствовал, что дух смотрит прямо на него и что на голове его горит яркий свет.
— Как мало надо для того, чтобы заслужить благодарность этих глупцов, — сказал дух.
— Мало! — повторил Скрудж.
Дух зна́ком заставил Скруджа прислушаться к разговору двух учеников, которые от всей души расточали похвалы и благодарности Феззивигу. И, когда Скрудж послушал, дух сказал:
— Ну, не так ли? Истратил он несколько фунтов, ну, быть может, три-четыре фунта… Неужели этого достаточно, чтобы заслужить такие похвалы?
— Не в этом дело, — сказал Скрудж, задетый за живое его словами, и невольно говоря своим прежним юношеским тоном. — Не в этом дело, дух. В его власти сделать нас счастливыми или несчастными, нашу службу — радостным или несчастным бременем, наслаждением или тяжелым трудом. Допустим, что его власть заключается в каком-либо слове или взгляде — вещах столь ничтожных, незначительных и неуловимых, — но так что же? Счастье, которое он дает, так велико, что равняется стоимости целого состояния.
Он почувствовал взгляд духа и остановился.
— Что такое? — спросил дух.
— Ничего особенного, — сказал Скрудж.
— Как будто что-то случилось с вами, — настаивал дух.
— Нет, — сказал Скрудж. — Нет, мне бы хотелось сказать теперь два-три слова моему писцу. Вот и всё.
Когда он говорил это, его двойник загасил лампы, и Скрудж и дух опять очутились под открытым небом.
— У меня остается мало времени, — заметил дух. — Скорее!
Слова эти не относились ни к Скруджу, ни к кому-либо другому, кого мог видеть дух, но действие их тотчас же сказалось, — Скрудж снова увидел своего двойника. Теперь он был старше, в самом расцвете лет. Черты его лица не были еще так жестки и грубы, как в последние годы, но лицо уже носило признаки забот и скупости. Глаза его бегали беспокойно и жадно, что говорило о глубоко вкоренившейся страсти, которая пойдет далеко в своем развитии.
Он был не один, он сидел рядом с красивой молодой девушкой в трауре. На глазах ее стояли слезы, блестевшие в сиянии, исходившем от духа минувшего Рождества.
— Пустяки, — сказала она тихо и нежно. — Пустяки, — для вас-то. Другой кумир вытеснил меня из вашего сердца. И если в будущем он даст вам утешение и радость, что постаралась бы сделать и я, мне нет причин роптать.
— Какой же это кумир? — спросил Скрудж.
— Деньги.
— В ваших словах беспристрастный приговор света! Такова людская правда! — сказал он. — Ничто не порицается так сурово, как бедность, и вместе с тем ничто так беспощадно не осуждается, как стремление к наживе.
— Вы уж слишком боитесь света, — ответила она кротко. — Все ваши другие надежды потонули в желании избежать низких упреков этого света. Я видела, как все ваши благородные стремления отпадали одно за другим, пока страсть к наживе не поглотила вас окончательно. Разве это неправда?
— Что же из того? — возразил он. — Что же из того, что я сделался гораздо умнее? Разве я переменился по отношению к вам?
Она покачала головой.
— Переменился?
— Союз наш был заключен давно. В те дни мы оба были молоды, всем довольны и надеялись совместным трудом улучшить со временем наше материальное положение. Но вы переменились. В то время вы были другим.
— Я был тогда мальчишкой, — сказал Скрудж с нетерпением.
— Ваше собственное чувство подсказывает вам, что вы были не таким, как теперь, — ответила она. — Я же осталась такой же, как прежде. То, что сулило счастье, когда мы любили друг друга, теперь, когда мы чужды друг другу, предвещает горе. Как часто, с какой болью в сердце я думала об этом! Скажу одно: я уже всё обдумала и решила освободить вас от вашего слова.
— Разве я просил этого?
— Словами? Нет. Никогда.
— Тогда чем же?
— Тем, что вы переменились, начиная с характера, ума и всего образа жизни, тем, что теперь другое стало для вас главной целью. Моя любовь уже ничто в ваших глазах, точно между нами ничего и не было — сказала девушка, смотря на него кротко и твердо. — Ну, скажите мне, разве вы стали бы теперь искать меня и стараться приобрести мою привязанность? Конечно, нет.
Казалось, что, даже помимо своей воли, Скрудж соглашался с этим. Однако, сделав над собой усилие, он сказал:
— Вы сами не убеждены в том, что говорите.
— Я была бы рада думать иначе, — сказала она, — но не могу, — видит бог. Когда я узнала правду, я поняла, как она сильна, непоколебима. Сделавшись сегодня или завтра свободным, разве вы женитесь на мне, бедной девушке, без всякого приданого? Разве могу я рассчитывать на это? Вы, всё оценивавший при наших откровенных разговорах с точки зрения барыша! Допустим, вы бы женились, изменив своему главному принципу; но разве за этим поступком не последовало бы раскаяние и сожаление? Непременно. Итак, вы свободны, я освобождаю вас. И делаю это охотно, из-за любви к тому Скруджу, каким вы были раньше.
Он хотел было сказать что-то, но она, отвернувшись от него, продолжала:
— Может быть, воспоминание о прошлом заставляет меня надеяться, что вы будете сожалеть об этом. Но всё же спустя короткое время вы с радостью отбросите всякое воспоминание обо мне, как пустой сон, от которого вы, к счастью, очнулись. Впрочем, желаю вам счастья и на том жизненном пути, по которому вы пойдете.
И они расстались.
— Дух, — сказал Скрудж, — не показывай мне больше ничего. Проводи меня домой. Неужели тебе доставляют наслаждение мои муки?
— Еще одна тень, — воскликнул дух.
— Довольно! — вскричал Скрудж. — Не надо! Не хочу ее видеть! Не надо!
Но дух остался неумолимым и, стиснув обе его руки, заставил смотреть.
Они увидели иное место и иную обстановку: комната не очень большая, но красивая и уютная; около камина сидит молодая девушка, очень похожая на ту, о которой только что шла речь. Скрудж даже не поверил, что это была другая, пока не увидел сидевшей напротив молодой девушки ее матери — пожилой женщины, в которую превратилась любимая им когда-то девушка. В соседней комнате стоял невообразимый гвалт: там было так много детей, что Скрудж, в волнении, не мог даже сосчитать их; и вели себя дети совсем не так, как те сорок детей в известной поэме, которые держали себя, как один ребенок, — нет, наоборот, каждый из них старался вести себя, как сорок детей. Потому-то там и стоял невообразимый гам; но, казалось, он никого не беспокоил. Напротив, мать и дочь смеялись и радовались этому от души. Последняя скоро приняла участие в игре, и маленькие разбойники начали немилосердно тормошить ее.
О, как бы я желал быть на месте одного из них! Но я никогда бы не был так груб! Никогда! За сокровища целого мира я не решился бы помять этих заплетенных волос! Даже ради спасения своей жизни я не стащил бы этот маленький, бесценный башмачок! Никогда я не осмелился бы обнять этой талии, как то делало в игре дерзкое молодое племя: я бы ожидал, что в наказание за это моя рука скрючится и никогда не выпрямится снова. И, однако, признаюсь, я дорого бы дал, чтобы прикоснуться к ее губам, спросить ее о чем-нибудь — и только для того, чтобы она раскрыла их, чтобы смотреть на ее опущенные ресницы, распустить ее волосы, самая маленькая прядь которых была бы сокровищем для меня. Словом, я желал бы иметь право хотя бы на самую ничтожную детскую вольность, но в то же время хотел бы быть и мужчиной, вполне знающим ей цену.
Но вот послышался стук в дверь, — и тотчас же вслед за этим дети так ринулись к двери, что девушка со смеющимся лицом и помятым платьем, попав в самую средину раскрасневшейся буйной толпы, была подхвачена ими и вместе со всей ватагой устремилась приветствовать отца, возвратившегося домой в сопровождении человека, который нес рождественские подарки и игрушки.
Толпа детей тотчас же бросилась штурмом на беззащитного носильщика. Дети влезали на него со стульев, заменявших им приставные лестницы, залезали к нему в карманы, тащили свертки в оберточной коричневой бумаге, крепко вцеплялись в его галстук; колотили его по спине, и брыкались в приливе неудержимой радости. И с такими криками восторга развертывался каждый сверток! Какой ужас охватил всех, когда один из малюток был захвачен на месте преступления, в тот момент, когда он положил кукольную сковородку в рот, а какое отчаяние вызывало подозрение, что он же проглотил игрушечного индюка, приклеенного к деревянному блюду, и как спокойно вздохнули все, когда оказалось, что всё это — ложная тревога. Шум смолк, и дети постепенно стали удаляться наверх, где и улеглись спать.
Скрудж стал еще внимательнее наблюдать: он видел, как хозяин, на которого нежно облокотилась дочь, сел рядом с ней и женой у камелька. Взор Скруджа омрачился, когда он представил, что это милое, прелестное существо могло называть его отцом, согревать зиму его жизни.
— Бэлла, — сказал мужчина, с улыбкой обращаясь к жене. — Сегодня я видел твоего старого друга.
— Кого?
— Угадай.
— Как же я могу! Ах, знаю, — прибавила она, отвечая на его смех. — Мистера Скруджа?
— Да. Я проходил мимо окна его конторы и, так как оно не было заперто, а внутри горела свеча, я видел его. Его компаньон, я слышал, умер и теперь он сидит один, совсем один в целом мире.
— Дух, — сказал Скрудж с дрожью в голосе, — уведи меня отсюда!
— Я ведь сказал тебе, что это тени минувшего, — сказал дух.
— Уведи меня! — воскликнул Скрудж. — Я не перенесу этого!
Он повернулся и встретил взгляд духа, в котором странным образом сочетались отрывки всех лиц, только что им виденных.
— Оставь меня, уведи меня, не смущай меня более!
Не высказывая ни малейшего сопротивления всем попыткам Скруджа, дух однако остался непоколебим, и только свет, исходивший от него, разгорался всё ярче и ярче.
И смутно сознавая, что сила духа находится в зависимости от этого света, Скрудж внезапно схватил гасильник и с силой надавил его на голову духа.
Дух съежился под гасильником, закрывшим его всего. Несмотря на то, что Скрудж надавил гасильник со всей присущей ему силой, он все-таки не мог погасить свет, лившийся из-под него непрерывным потоком.
И вдруг он почувствовал себя в своей спальне сонным, разбитым. Сделав последнее усилие придавить гасильник, при котором совсем ослабела его рука, он, едва успев дойти до кровати, погрузился в глубокий сон.
СТРОФА III
Второй дух
Всхрапнув слишком громко, Скрудж внезапно очнулся и сел на кровати, чтобы собраться с мыслями. Он отлично знал, что колокол скоро пробьет час, и почувствовал, что пришел в себя именно в то время, когда предстояла беседа со вторым духом, предсказанным Яковом Марли. Скруджу очень хотелось знать, какую из занавесок теперь отодвинет призрак. Но, ощутив от такого ожидания неприятный холод, он не утерпел и сам раздвинул их, снова улегся в постель и насторожился. В момент встречи с духом он приготовился окликнуть его и тем скрыть свой страх и волнение.
Люди ловкие, умеющие найтись в каких угодно обстоятельствах, говорят, хвастаясь своими способностями, что им решительно всё равно, играть ли в орлянку, или убить человека, хотя между обоими этими занятиями лежит целая пропасть. Я не настаиваю на том, что это вполне применимо к Скруджу, но вместе с тем и не стал бы разуверять вас в том, что Скрудж был настроен самым странным образом и, пожалуй, не особенно бы поразился, увидав вместо грудного младенца носорога.
Приготовясь ко всему, Скрудж однако никак не предполагал, что ничего не увидит, а потому, когда колокол пробил час, никто не явился, его охватила сильная дрожь. Прошло пять, десять минут, четверть часа, — ничего не случилось. Скрудж продолжал лежать на своей постели, освещаемый потоком какого-то красноватого света, тревожившего его своей непонятностью гораздо более, чем появление двенадцати духов, — лежал до тех пор, пока часы не пробили час. Порой у него возникало опасение, — не происходит ли уж в этот момент редкий случай самовозгорания, но и это мало утешало его, так как и в этом он не был твердо убежден.
Однако он, наконец, остановился на той самой простой мысли, которая нам с вами, читатель, пришла бы в голову раньше всего. А уж это так всегда бывает: человек в чужой беде гораздо находчивее и отлично знает, что надо делать.
Итак, говорю я, Скрудж, наконец, решил, что источник и разгадка этого таинственного света находится в соседней комнате, откуда, по-видимому, и исходил свет. Когда эта мысль окончательно овладела им, он тихо встал и в туфлях подошел к двери.
В ту минуту, когда Скрудж взялся за скобку, чей-то странный голос назвал его по имени и приказал ему войти.
Он повиновался.
В том, что это была его собственная комната не могло быть ни малейшего сомнения, но с ней произошла изумительная перемена. Стены и потолок были задрапированы живой зеленью, производя впечатление настоящей рощи; на каждой ветви ярко горели блестящие ягоды. Кудрявые листья остролиста, омелы, плюща отражали в себе свет, точно маленькие зеркала, рассеянные повсюду. В трубе камина взвивалось огромное свистящее пламя, какого эти прокопченные камни никогда не знали при Скрудже и Марли за много-много минувших зим. На полу, образуя трон, громоздились индюки, гуси, дичь, свинина, крупные части туш, поросята, длинные гирлянды сосисок, пудинги, бочонки устриц, докрасна раскаленные каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, сладкие до приторности груши, крещенские сладкие пироги, кубки с горячим пуншем, наполнявшим комнату тусклым сладким паром. На троне свободно и непринужденно сидел приятный, веселый великан. Он держал в руке пылающий факел, похожий на рог изобилия и высоко поднял его, так чтобы свет падал на Скруджа, когда тот подошел к двери и заглянул в комнату.
— Войди! — произнес дух. — Познакомимся поближе.
Скрудж робко вошел и опустил голову перед духом. Он не был тем угрюмым и раздражительным Скруджем, каким бывал обыкновенно. И хотя глаза духа были ясны и добры, он не хотел встречаться с ними.
— Я дух нынешнего Рождества, — сказал призрак. — Приглядись ко мне.
Скрудж почтительно взглянул на него. Он был одет в простую длинную темно-зеленую мантию, опушенную белым мехом. Мантия висела на нем так свободно, что не вполне закрывала его широкой обнаженной груди, словно пренебрегавшей каким бы то ни было покровом. Под широкими складками мантии ноги его были также голы. На голове был венок из остролиста, усеянный сверкающими ледяными сосульками. Его темные распущенные волосы были длинны. От его широко раскрытых, искрящихся глаз, щедрой руки, радостного лица и голоса, от его свободных, непринужденных движений веяло добродушием и веселостью. На его поясе висели старинные ножны, изъеденные ржавчиной и пустые.
— Ты никогда не видал подобного мне? — воскликнул дух.
— Никогда, — отвечал Скрудж.
— Разве ты никогда не входил в общение ст младшими братьями моей семьи, рожденными в последние годы, и из которых я самый младший? — продолжал дух.
— Кажется, нет, — сказал Скрудж. — Много ли у тебя братьев, дух?
— Более тысячи восьмисот, — сказал дух.
— Вот так семья! — проворчал Скрудж. — Попробуй-ка ее прокормить!
Дух нынешнего Рождества встал.
— Дух, — сказал покорно Скрудж, — веди меня, куда хочешь. По воле духа, я пространствовал всю прошлую ночь и признаюсь, полученный мной урок не пропал даром. Позволь же мне и в эту ночь воспользоваться твоими поучениями.
— Прикоснись к моей одежде.
Скрудж исполнил приказание духа, крепко ухватившись за его мантию.
Остролист, омела, красные ягоды, плющ, индюшки, гуси, дичь, свинина, мясо, поросята, сосиски, устрицы, пудинг, плоды, пунш — всё мгновенно исчезло. Скрылась и комната, огонь, поток красноватого света, исчезла ночь, и они очутились в рождественское утро на улицах города, где рабочие с резкими, но приятными звуками счищали с тротуаров и крыш домов снег, который, падая вниз на улицу, рассыпался снежной пылью, приводя в восторг мальчишек.
Окна мрачных стен домов казались еще мрачнее от гладкой белой пелены снега на крышах домов и грязного снега на земле, который тяжелыми колесами карет и ломовых фур был изрыт, точно плугом, — глубокие борозды пересекались в разных направлениях по сто раз одна с другой, особенно на перекрестках улиц, где они так перепутались в желтой, густой, ледяной слякоти, что их невозможно было отграничить.
Небо было пасмурно, и даже самые короткие улицы задыхались от темной влажно-ледяной мглы, насквозь пропитанной сажей дымовых труб, частицы которой вместе с туманом опускались вниз. Казалось, все трубы Великобритании составили заговор и дымили вовсю.
Несмотря на то, что ни в погоде, ни в городе не было ничего веселого, в воздухе веяло чем-то радостным, чего не могли дать ни летний воздух, ни самый яркий блеск солнца.
Люди, счищавшие снег с крыш, были радостны и веселы; они перекликались друг с другом из-за перил, перебрасывались снежками — перестрелка более невинная, чем шутки словесные — и одинаково добродушно смеялись, когда снежки попадали в цель и когда пролетали мимо.
Между тем как лавки с битой птицей были еще не вполне открыты, фруктовые уже сияли во всем своем великолепии. Расставленные в них круглые пузатые корзины с каштанами походили на жилеты веселых пожилых джентльменов, которые, вследствие своей чрезмерной полноты подвержены апоплексии, и которые, развалившись у дверей, точно собираются выйти на улицу. Смуглый, красноватый испанский лук, напоминающий своей толщиной испанских монахов, с лукаво-игривой улыбкой посматривал с полок на проходивших девушек и с напускной скромностью на висящие вверху омелы. Груши и яблоки были сложены в цветистые пирамиды. Прихотью лавочников кисти винограда были развешены весьма затейливо и весьма соблазнительно для прохожих. Груды коричневых, обросших мхом лесных орехов своим благоуханием заставляли вспоминать былые прогулки в лесу, когда доставляло такое наслаждение утопать ногами в сухих листьях. Пухлые сушеные яблоки из Норфолка, смуглым цветом еще резче оттенявшие желтизну апельсинов и лимонов, были сочны и мясисты и, казалось, так и просились, чтобы их, в бумажных мешках, разнесли по домам и съели после обеда. Даже золотые и серебряные рыбы, выставленные в чашке среди этих отборных фруктов — тупые существа с холодной кровью, — кругообразно и беззаботно плавая в своем маленьком мирке друг за другом и открывая рот при дыхании, казалось, знали, что творится нечто необычное.
А лавки колониальных товаров! Они еще заперты. Быть может, снята только одна-другая ставня. Но чего-чего не увидишь там, хотя бы мельком заглянув в окна!
Чашки весов с веселым звуком спускались на прилавок, бечевки быстро разматывались с катушки, жестянки с громом передвигались, точно по мановению фокусника, смешанный запах кофе и чая так приятно щекотал обоняние. А какое множество чудесного изюма, какая белизна миндаля, сколько длинных и прямых палочек корицы, обсахаренных фруктов и других пряностей! Ведь от одного этого самый равнодушный зритель почувствовал бы истому и тошноту! Винные ягоды сочны и мясисты, французский кислый чернослив скромно румянится в разукрашенных ящиках — всё, всё в своем праздничном убранстве приобретало особый вкус!
Но, этого мало. Надо было видеть покупателей! В ожидании праздничных удовольствий, они так суетились и спешили, что натыкались друг на друга в дверях, (причем их ивовые корзины трещали самым ужасным образом), забывали покупки на прилавках, прибегали за ними обратно и проделывали сотни подобных оплошностей, не теряя однако прекрасного расположения духа.
Но скоро с колоколен раздался благовест, призывавший добрых людей в церкви и часовни, и толпа, разодетая в лучшее платье, с радостными лицами, двинулась по улицам. Тотчас же из многочисленных улиц, неведомых переулков появилось множество людей, несших в булочные свой обед. Вид этих бедняков, которые тоже собирались покутить, очень занимал духа, и он, остановясь у входа булочной и снимая крышки с блюд, когда приносившие обеды приближались к нему, окуривал ладаном своего факела их обеды. Это был удивительный факел: всякий раз, когда прохожие, натолкнувшись один на другого, начинали ссориться, достаточно было духу излить на них несколько капель воды из своего факела, чтобы тотчас же все снова становились добродушными и сознавались, что стыдно ссориться в день Рождества. И поистине они были правы!
Спустя некоторое время, колокола смолкли, и булочники закрыли лавки. Над каждой печкой остались следы в виде влажных талых пятен, глядя на которые, было приятно думать об успешном приготовлении обедов. Тротуары дымились, словно самые камни варились.
— Разве еда приобретает особый вкус от того, что ты брызгаешь на нее? — спросил Скрудж.
— Да. Вкус, присущий только мне.
— Всякий ли обед сегодня может приобрести такой вкус?
— Всякий, который дают радушно. Особенно же обеды бедных людей.
— Почему? — спросил Скрудж.
— Потому что бедняки нуждаются в обеде более, чем кто-либо другой.
— Дух, — сказал Скрудж, после минутного раздумья. — Меня удивляет, почему из всех существ бесчисленных миров, которые окружают нас, именно ты препятствуешь этим людям пользоваться иногда самыми невинными наслаждениями.
— Я? — воскликнул дух.
— Ты даже не допускаешь, чтобы они обедали каждое воскресение, а ведь только в этот день они, можно сказать, обедают по-человечески, — сказал Скрудж.
— Я? — воскликнул дух.
— Да ведь ты же стараешься, чтобы по воскресеньям эти места были закрыты, — сказал Скрудж.
— Я стараюсь? — воскликнул дух.
— Если я не прав, прости меня. По крайней мере, это делается от твоего имени или от имени твоей семьи, — сказал Скрудж.
— Много людей на земле, — возразил дух, — которые нашим именем совершают дела, исполненные страстей, гордости, недоброжелательства, зависти, ханжества и себялюбия. Но люди эти нам чужды. Помни это и обвиняй их, а не нас.
Скрудж обещал, и они, оставаясь, так же, как и прежде, невидимыми, направились в предместья города. Дух обладал замечательным свойством, заключавшимся в том, (Скрудж заметил это в булочной) что, несмотря на свой гигантский рост, мог легко приспособляться ко всякому месту и также удобно помещаться под низкой крышей, как и в высоком зале. Может быть, желание проявить это свойство, в чем добрый дух находил удовольствие, а может быть, его великодушие и сердечная доброта привели его к писцу Скруджа, в дом которого он вошел вместе со Скруджем, державшимся за его одежду. На пороге двери дух улыбнулся и останавился, дабы кроплением из факела благословить жилище Боба Крэтчита. Ведь только подумать! Боб зарабатывал всего пятнадцать шиллингов в неделю; в субботу он положил в карман пятьдесят монет, носивших его же имя «Боб» — и однако дух благословил его дом, состоявший всего из четырех комнат.
В это время мистрис Крэтчит встала. Она была бедно одета в платье, уже вывернутое два раза, но украшенное дешевыми лентами, которые для шести пенсов, заплаченных за них, были положительно хороши. Со второй своей дочерью, Белиндой, которая также была разукрашена лентами, она накрыла стол. Петр погрузил вилку в кастрюльку с картофелем и, несмотря на то, что углы его большого воротника (воротник этот принадлежал Бобу, который по случаю праздника передал его своему сыну и наследнику), лезли ему в рот, очень радовался своему элегантному платью и охотно показал бы свое белье даже где-нибудь в модном парке. Два маленьких Крэтчита, мальчик и девочка, сломя голову вбежали в комнату с криками, что из пекарни они слышат запах своего гуся. Мечтая с восхищением о шалфее и луке, маленькие Крэтчиты начали танцевать вокруг стола и превозносить до небес Петра Крэтчита, который несмотря на то, что воротнички окончательно задушили его, продолжал раздувать огонь до тех пор, пока неповоротливый картофель не стал пускать пузыри, а крышка со стуком подпрыгивать, — знак, что наступило время вынуть и очистить его.
— Что случилось с вашим отцом и братом, Тайни-Тимом? — спросила мистрис Крэтчит. — Да и Марта в прошлое Рождество пришла раньше на полчаса.
— А вот и я, мама! — сказала, входя, девушка.
— Вот и Марта, — закричали два маленьких Крэтчита. — Ура! Какой гусь у нас будет, Марта!…
— Что же это ты так запоздала, дорогая? Бог с тобой! — сказала мистрис Крэтчит, целуя дочь без конца и с ласковой заботливостью снимая с нее шаль и шляпу.
— Накануне было много работы, — ответила девушка, — кое-что пришлось докончить сегодня утром.
— Всё хорошо, раз ты пришла, — сказала мистрис Крэтчит. — Присядь к огню и погрейся, милая моя. Да благословит тебя бог!
— Нет, нет! — закричали два маленьких Крэтчита, которые поспевали всюду. — Вот идет отец! Спрячься, Марта, спрячься!
Марта спряталась. Вошел сам маленъкий Боб, закутанный в свой шарф, длиной в три фута, не считая бахромы. Платье его, хотя и было заштопано и чищено, имело приличный вид. На его плече сидел Тайни-Тим. Увы, он носил костыль, а на его ножки были положены железные повязки.
— А гд же наша Марта? — вскричал Боб Крэтчит, осматриваясь.
— Она еще не пришла, — сказала мистрис Крэтчит.
— Не пришла, — сказал Боб, мгновенно делаясь грустным. Он был разгорячен, так как всю дорогу от церкви служил конем для Тайни-Тима. — Не пришла в день Рождества.
Хотя Маргарита сделала всё это в шутку, она не вынесла его огорчения и, не утерпев, преждевременно вышла из-за двери шкафа и бросилась к отцу в объятия. Два маленьких Крэтчита унесли Тайни-Тима в прачечную послушать как поет пудинг в котле.
— А как вел себя маленький Тайни-Тим?—спросила мистрис Крэтчит, подшучивая над легковерием Боба, после того как он долго целовался с дочерью.
— Прекрасно, — сказал Боб. — Это золотой ребенок. Он становится задумчивым от долгого одиночества и по-моему ему приходят в голову неслыханные вещи. Когда мы возвращались, он рассказал мне, что люди в церкви при виде его убожества с радостью вспомнили о Рождестве, и о том, кто исцелил хромых и слепых. Всё это Боб говорил с дрожью в голосе и волнением, которое еще более усилилось, когда он выражал надежды, что Тайни-Тим будет здоров и крепок.
По полу раздался проворный стук его костыля, и не успели сказать и одного слова, как Тайни-Тим вместе со своим братом и сестрой вернулся к своему столу, стоявшему возле камина, — как раз в то время, когда Боб, засучив рукава (Бедняк! Он воображал, что их возможно износить еще более!) составлял в глиняном кувшине какую-то горячую смесь из джина и лимонов, которую, размешав, он поставил на горячее место на камине. Петр и два маленьких Крэтчита отправились за гусем, с которым скоро торжественно и вернулись.
С появлением гуся началась такая суматоха, что можно было подумать, что гусь самая редкая птица из всех пернатых — чудо, в сравнении с которым черный лебедь самая заурядная вещь. И действительно, гусь был большой редкостью в этом доме.
Заранее приготовленный в кастрюльке соус мистрисс Крэтчит нагрела до того, что он шипел, Петр во всю мочь хлопотал с картофелем, мисс Белинда подслащивала яблочный соус, Марта вытирала разогретые тарелки. Взяв Тайни-Тима, Боб посадил его за стол рядом с собой на углу стола. Два маленьких Крэтчита поставили стулья для всех, не забыв, впрочем, самих себя и, заняв свои места, засунули ложки в рот, чтобы не просить гуся раньше очереди.
Наконец, блюда были расставлены и прочитана молитва перед обедом. Все, затаив дыхание, замолчали. Мистрис Крэтчит, тщательно осмотрев большой нож, приготовилась разрезать гуся и, когда после этого брызнула давно ожидаемая начинка, вокруг поднялся такой шепот восторга, что даже Тайни-Тим, подстрекаемый двумя маленькими Крэтчитами, ударил по столу ручкой своего ножа и слабым голосом закричал: «Ура!»
Нет, никогда не было такого гуся! По уверению Боба, невозможно и поверить тому, что когда-либо к столу приготовлялся такой гусь. Его нежный вкус, величина и дешевизна возбуждали всеобщий восторг. Приправленный яблочным соусом и протертым картофелем, гусь составил обед для целой семьи. Увидев на блюде оставшуюся небольшую косточку, мистрис Крэтчит заметила, что гуся съели не всего. Однако, все были сыты и особенно маленькие Крэтчиты, которые сплошь выпачкали лица луком и шалфеем. Но вот Белинда перемыла тарелки, а мистрис Крэтчит выбежала из комнаты за пудингом, взволнованная и смущенная.
— А что, если он не дожарился? А что, если развалился? Что, если кто-нибудь перелез через стену заднего двора и украл его, когда они ели гуся. — Это были такие предположения, от которых два маленьких Крэтчита побледнели, как смерть. Приходили в голову всевозможные ужасы.
Целое облако пару! Пуддинг вынули из котелка, и от салфетки пошел такой запах мокрого белья, что казалось, будто рядом с кондитерской и кухмистерской была прачечная. Да, это был пудинг! Спустя полминуты явилась мистрис Крэтчит, раскрасневшаяся и гордо улыбающаяся, с пудингом, похожим на пестрое пушечное ядро, крепким и твердым, кругом которого пылал ром, а на вершине в виде украшения был пучок остролиста.
Какой дивный пудинг! Боб Крэтчит заметил — и притом спокойно — что мистрис Крэтчит со времени их свадьбы ни в чем не достигала такого совершенства.
Почувствовав облегчение, мистрис Крэтчит призналась в том, что она очень боялась, что положила не то количество муки, которое было нужно. Каждый мог что-либо сказать, но все воздержались даже от мысли, что для такой большой семьи пудинг недостаточно велик, хотя все сознавали это. Разве можно было сказать что-нибудь подобное? Никто даже не намекнул на это.
Наконец, обед кончен, скатерть убрана со стола, камин вычищен и затоплен. Отведав смесь в кувшине, все нашли ее превосходной; яблоки и апельсины были выложены на стол, и совок каштанов был брошен на огонь. Потом вся семья собралась вокруг камина, расположившись таким порядком, который Боб называл «кругом», подразумевая полукруг, и была выставлена вся стеклянная посуда: два стакана и стеклянная чашка без ручки.
Но посуда эта вмещала всё содержимое из кувшина не хуже золотых кубков. Каштаны брызгали и шумно потрескивали, пока Боб с сияющим лицом разливал напиток.
— С праздником вас, с радостью, дорогие! Да благословит вас бог!
Вся семья и последним Тайни-Тим повторили это восклицание.
Тайни-Тим сидел рядом с отцом на своем маленьком стуле. Боб любовно держал его худую ручку в своей руке, точно боялся, что его отнимут у него, и хотел удержать.
— Дух, — сказал Скрудж с участием, которого раньше никогда не испытывал, — скажи, будет ли жив Тайни-Тим?
— В уголке, возле камина я вижу пустой стул, — ответил дух, — и костыль, который так заботливо оберегают. Если тени не изменятся, ребенок умрет.
— Нет, нет! — воскликнул Скрудж. — О, нет! Добрый дух, скажи, что смерть пощадит его.
— Если тени не изменятся, дух будущего Рождества уже не встретит его здесь, — сказал дух. — Что же из того? Если он умрет, он сделает самое лучшее, ибо убавит излишек населения.
Скрудж склонил голову, услышав свои собственные слова и почувствовал печаль и раскаяние.
— Человек, — сказал дух, — если в тебе сердце, а не камень, воздержись от нечестивых слов, пока не узнаешь, что такое излишек населения. Тебе ли решать, какие люди должны жить, какие умирать? Перед очами бога, может быть, ты более недостойный, и имеешь меньше права на жизнь, чем миллионы подобных ребенку этого бедняка. Боже! Каково слушать букашку, рассуждающую о таких же, как она сама, букашках, живущих в пыли и прахе!
Скрудж, дрожа, наклонил голову и опустил глаза. Но он снова быстро поднял их, услышав свое имя.
— За мистера Скруджа! — сказал Боб. — Пью за здоровье Скруджа, виновника этого праздника.
— Действительно, виновник праздника! — воскликнула мистрисс Крэтчит, краснея. — Как бы я хотела, чтобы он был здесь. Я бы всё высказала ему откровенно, и, думаю, мои слова не пришлись бы ему по вкусу.
— Дорогая моя, — сказал Боб, — ведь сегодня день Рождества!
— Конечно, — сказала она, — только ради такого дня и можно выпить за здоровье такого противного, жадного и бесчувственного человека, как мистер Скрудж. Никто лучше тебя не знает его, бедный Роберт!
— Дорогая, — кротко ответил Боб, — ведь сегодня Рождество!
— Только ради тебя и такого дня я выпью за его здоровье, — сказала мистрис Крэтчить, — но не ради Скруджа. Дай бог ему подольше пожить! Радостно встретить праздник и счастливо провести Новый год! Я не сомневаюсь, что он будет весел и счастлив!
После нее выпили и дети. Это было первое, что они сделали без обычной сердечности. Тайни-Тим выпил последним, оставаясь совершенно равнодушным к тосту. Скрудж был истым чудовищем для всей семьи, упоминание его имени черной тенью осенило всех присутствующих, и эта тень не рассеивалась целых десять минут.
Но после того, как они отделались от воспоминаний о Скрудже, они почувствовали такое облегчение, что стали в десять раз веселее.
Боб сказал, что имеет в виду место для Петра и, если удастся получить это место, то оно будет приносить еженедельно пять шиллингов и шесть пенсов.
Два маленьких Крэтчита страшно смеялись при мысли о том, что вдруг Петр станет дельцом; а сам Петр задумчиво смотрел из-за своих воротничков на огонь, точно соображая, куда лучше поместить капитал, с которого он будет получать фантастический доход. Марта, служившая ученицей у модистки, рассказала о своих работах, о количестве часов, которые она работала подряд, и мечтала о том, как завтра она будет долго лежать в постели и наслаждаться отдыхом. Завтра праздник, и она проведет его со своими. Она рассказывала еще о том, как несколько дней тому назад видела лорда, который был так же высок ростом, как Петр; при этом Петр так высоко вытянул воротнички, что почти не стало видно его головы. Всё это время каштаны и кружка переходили из рук в руки, а вскоре Тайни-Тим запел песнь о заблудившемся в снегах ребенке — запел маленьким жалобным голоском, но поистине чудесно.
Во всём этом празднике не было ничего особенного. Одеты все были бедно, красивых лиц не было. Башмаки были худы, промокали, платья поношены, и очень вероятно, что Петр отлично знал, где закладывают вещи. Но все были счастливы, довольны, благодарны друг другу, и когда исчезали в ярких потоках света, исходивших из факела духа, то казались еще счастливее, и Скрудж до последней минуты своего пребывания у Боба не спускал глаз с его семьи, а особенно с Тайни-Тима.
Тем временем стало темно, и пошел довольно сильный снег. В кухнях, гостиных и других покоях домов чудесно блестели огни, когда Скрудж и дух проходили по улицам. Там, при колеблющемся свете камина шли, очевидно, приготовления к приятному обеду с горячими тарелками, насквозь прохваченными жаром; там, чтобы заградить доступ мраку и холоду, можно было во всякий момент опустить темно-красные гардины. Там все дети выбежали на улицу, в снег, встретить своих веселых сестер, братьев, кузин, дядей и теток и первыми повидаться с ними. Там, напротив, на оконных шторах ложатся тени собравшихся гостей; а здесь толпа девушек, наперебой болтающих друг с другом, перебегает легкими шагами в соседний дом — и плохо тому холостяку, который увидит их с пылающими от мороза лицами, — а об этом хорошо знают коварные чародейки!
Судя по множеству людей, шедших в гости, можно было подумать, что никого не осталось дома и некому было встречать гостей, которых однако ожидали повсюду, затопив камины. Дух радостно благословлял всё. Обнажив свою широкую грудь и большую длань, он понесся вперед, изливая по пути чистые радости на каждого.
Даже фонарщик, усеивающий сумрачную улицу пятнами света, оделся в праздничное платье в чаянии провести вечер где-нибудь в гостях, и громко смеялся, когда проходил дух, впрочем, нимало не подозревая об этом.
Но вот, без всякого предупреждения со стороны духа, они остановились среди холодного пустынного болота, где громоздились чудовищные массы грубого камня, точно это было кладбище гигантов; вода здесь разливалась бы где только возможно, если бы ее не сковал мороз. Здесь не росло ничего, кроме мха, вереска и жесткой густой травы. Заходящее на западе солнце оставило огненную полосу, которая, на мгновение осветив пустыню и всё более и более хмурясь, подобно угрюмому глазу, потерялась в густом мраке темной ночи.
— Что это за место? — спросил Скрудж.
— Здесь живут рудокопы, работающие в недрах земли, — отозвался дух. — Но они знают меня. Смотри.
В окнах хижины блеснул свет, и они быстро подошли к ней. Пройдя через стену, сложенную из камня и глины, они застали веселую компанию, собравшуюся у пылающего огня и состоявшую из очень старого мужчины и женщины с детьми, внуками и правнуками. Все были одеты по-праздничному. Старик пел рождественскую песнь, и его голос изредка выделялся среди воя ветра, разносясь в бесплодной пустыне.
То была старинная песня, которую он пел еще мальчиком; время от времени все голоса сливались в один хор. И всякий раз, когда они возвышались, старик становился бодрее и радостнее, и смолкал, как только они упадали.
Дух недолго оставался в этом месте и, приказав Скруджу держаться за его одежду, полетел над болотом. Но куда он спешил? Не к морю ли? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж с ужасом увидел конец суши, ряд страшных скал; он был оглушен неистовым гулом волн, которые крутились, бушевали и ревели среди черных пещер, выдолбленных ими, и так яростно грызли землю, точно хотели срыть ее до основания. Но на мрачной гряде подводных скал в нескольких милях от берега, где весь год бешено билось и кипело море, стоял одинокий маяк. Множество морских водорослей прилипало к его подножию, и буревестники, рожденные морским ветром, как водоросли — морской водой, поднимались и падали вокруг него, подобно волнам, которых они чуть касались крыльями.
Но даже и здесь два человека, сторожившие маяк, развели огонь, который сквозь оконце в толстой стене проливал луч света на грозное море. Протянув друг другу мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели с кружками грога, они поздравляли друг друга с праздником: тот, который был старше и лицо которого от суровой непогоды было покрыто рубцами, как лица фигур на носах старых кораблей, затянул удалую песню, звучавшую, как буря.
Снова понесся дух над черным взволнованным морем, всё дальше и дальше, пока, наконец, далеко от берега, они не опустились на какое-то судно. Они побывали позади кормчего, занимающего свое обычное место, часового на носу, офицеров на вахте, стоявших на своих постах, подобно призракам. Каждый из них думал о Рождестве, тихонько напевал рождественскую песнь или рассказывал вполголоса своему товарищу о прошедших праздниках и делился своими мечтами о родине, тесно связанными с этими праздниками. Каждый из бывших на корабле моряков, бодрствовал он или спал, был ли добр или зол, каждый в этот день становился ласковее и добрее, чем когда-либо, и вспоминал о тех далеких людях, которых он любил, веря, что и им отрадно думать о нем.
Прислушиваясь к завываниям ветра, Скрудж думал о том, как сильно должно поражать сознание, что ты несешься сквозь безлюдную тьму над неведомой бездной, глубины которой таинственны, как смерть. Занятый такими мыслями, Скрудж очень удивился, услышав, вдруг искренний смех, и удивился еще более, когда узнал смех своего племянника и очутился в теплой, ярко освещенной комнате рядом с духом, который приветливо улыбался его племяннику.
— Ха! ха! — смеялся тот. — Ха, ха, ха!..
Если вам, благодаря какому-либо невероятному случаю приходилось знать человека, превосходящего племянника Скруджа способностью так искренно смеяться, то я скажу, что охотно познакомился бы и постарался сблизиться с ним.
Как прекрасно и целесообразно устроено всё на свете! Заразительны печали и болезни, но ничто так не заражает, как смех и веселость. Вслед за своим мужем, который смеялся, держась за бока и корча всевозможные гримасы, не менее искренно смеялась жена. Собравшиеся гости также не отставали от них.
— Ха, ха, ха, ха!
— Он сказал, что Рождество вздор! Честное слово! — вскричал племянник Скруджа. — Мало того, он твердо убежден в этом!
— Тем стыднее для него! — с негодованием сказала племянница Скруджа. — Да благословит бог женщин: они никогда ничего не делают наполовину и ко всему относятся серьезно.
Жена племянника Скруджа была очень хорошенькая женщина. Ее личико с ямочками на щеках, несколько удивленным выражением, ярким маленьким ротиком, точно созданным для поцелуев и который, конечно, часто целовали — было очень привлекательно. Прелестные маленькие пятнышки на подбородке сливались, когда она начинала смеяться, а пару таких блестящих глаз вам вряд ли случалось видеть. Словом, она была очень пикантна и никто не пожалел бы, познакомившись с ней поближе.
— О, он забавный старик, — сказал племянник Скруджа, — это правда, и не так приятен, как мог бы быть. Я не упрекаю его: за свои ошибки он сам же и получает должное.
— Я уверена, что он очень богат, — попробовала намекнуть племянница Скруджа. — По крайней мере, ты всегда уверяешь в этом.
— Что же из того, дорогая, — сказал племянник Скруджа, — его богатство не приносит ему никакой пользы. Что хорошего он из него извлек? Он не видит от него никакой радости. Его нисколько не утешает мысль, что он мог бы осчастливить нас своим богатством. Ха, ха, ха!
— Невыносимый человек, — заметила племянница Скруджа. И сестры ее и все другие женщины присоединились к ее мнению.
— Нет, я не согласен с этим, — сказал племянник Скруджа. — Мне жаль его. Я не мог бы на него сердиться, если бы и хотел. Кто страдает от его чудачеств? Только он сам. Видите ли, он забрал себе в голову, что не расположен к нам и не хочет прийти обедать. Ну, и что же? Он же и теряет, хотя, правда, немного.
— А по-моему, он лишился очень хорошего обеда, — прервала племянница Скруджа.
Все подтвердили ее слова, и с тем большим основанием, что обед был кончен, и все собрались вокруг стола за десертом при свете лампы.
— Мне очень приятно это слышать, — сказал племянник Скруджа, — ибо я не очень-то доверяю искусству молодых хозяек. Вы что скажете, Топпер?
Очевидно, имея виды на одну из сестер племянницы Скруджа, Топпер ответил, что холостяк — человек жалкий, отверженный и не имеет права выражать своего мнения по этому поводу. Одна из сестер племянницы Скруджа, полная девушка в кружевной косынке (не та, у которой были розы), покраснела при этих словах.
— Продолжай же, Фред, — сказала племянница Скруджа, захлопав в ладоши. — Никогда он не договаривает того, что начнет. Смешной человек!
Снова племянник Скруджа так расхохотался, что невозможно было не заразиться его весельем. Все единодушно последовали его примеру, хотя сестра племянницы Скруджа, полная девушка, желая удержаться от смеха, усиленно нюхала ароматический уксус.
— Я хотел только сказать, — промолвил племянник Скруджа, — что следствием его нерасположения к нам и нежелания повеселиться вместе с нами выходит то, что он теряет много прекрасных минут, которые, конечно, не принесли бы ему вреда. Всё же, думаю, ему гораздо интереснее было бы посетить нас, чем носиться со своими мыслями или сидеть в затхлой старой конторе или пыльных комнатах. Мне жаль его, а потому ежегодно я намерен приглашать его к нам, не обращая внимания на то, нравится ли это ему или нет. Пусть до самой смерти он относится к Рождеству так, как теперь; не считаясь с этим, я все-таки ежегодно буду приходить к нему и радостно спрашивать: «Как ваше здоровье, дядюшка?..» — и, надеюсь, он переменит, наконец, о нем мнение. И если, под влиянием этого, он оставит своему бедному писцу 50 фунтов стерлингов после смерти, то и этого будет довольно с меня. Думаю, что вчера мои слова тронули его.
Все засмеялись при последних словах. Но будучи предобродушно настроен и нисколько не смущаясь тем, что смеются над ним, лишь бы только смеялись, племянник Скруджа поощрял их в этом веселье, передавая с сияющим видом из рук в руки бутылку вина.
Семья была музыкальна, и сейчас же после чая началась музыка. Все отлично знали свое дело, а особенно Топпер, который во время исполнения хоровой песни и канона рычал басом, даже не покраснев и не напружив толстых жил на лбу. Племянница Скруджа хорошо играла на арфе, и среди других пьес исполнила простую коротенькую песенку (ее можно было выучиться насвистывать в две минуты), знакомую даже тому маленькому ребенку, который приезжал за Скруджем в пансион, как об этом ему напомнил дух минувшего Рождества.
Когда раздалась эта мелодичная песенка, Скрудж вспомнил всё то, что показал ему дух. Песенка очень растрогала его, и он подумал, что если бы он прежде слышал ее чаще, он относился бы сердечнее к людям и достиг бы счастья и без помощи могильщика, закопавшего тело Якова Марли.
Но музыке был посвящен не весь вечер. Спустя некоторое время начали играть в фанты. Хорошо иногда сделаться детьми, а лучше всего быть ими в дни Рождества, когда сам великий основатель его был ребенком. Сначала, разумеется, играли в жмурки. Я также мало верю тому, что глаза Топпера были завязаны, как тому, что они были у него в сапогах. Между Топпером и племянником Скруджа был, очевидно, уговор помогать друг другу, о чем знал и дух Рождества. Уже одно то, как он ловил полную сестру племянницы Скруджа, было издевательством над человеческой доверчивостью. Преследуя ее повсюду, он опрокидывал каминные принадлежности, спотыкался о стулья, наталкивался на фортепиано, запутывался в занавесах; он всегда знал, где она, и ловил только ее одну. Если бы вы умышленно старались попасться ему под руку (что и делали некоторые), он сделал бы вид, что ловит вас, а на деле стремился бы только к полной девушке. Она всё кричала, что это нечестно и была, конечно, права. Но, наконец, он поймал ее, загнав в угол, откуда не было выхода, несмотря на все старания ее пропорхнуть мимо него, шурша шелковым платьем. Здесь поведение его стало еще возмутительнее! Он притворился, что не узнает ее. Ему, видите ли, надо было дотронуться до нее, чтобы убедиться в этом, ощупать кольцо на ее руке или цепочку на ее шее. Гадко и омерзительно! Воспользовавшись моментом, когда ловил другой, а они оставались наедине за занавесками, она, конечно, откровенно высказала ему свое мнение о его поведении.
Усевшись на большом стуле в уютном уголке и поставив ноги на скамейку, племянница Скруджа совсем не играла в жмурки. Позади нее стояли дух и Скрудж. В фанты же играла и она — и играла действительно искусно. Когда она играла в игру «Как, когда и где», она, к великому удовольствию своего мужа, перещеголяла своих сестер, несмотря на то, что и они были очень находчивы в этой игре, — это мог подтвердить и сам Топпер. Скрудж также принимал участие в игре, ибо играли все присутствующие двадцать человек, молодые и старые. Играя, Скрудж иногда совершенно забывал о том, что не слышно его голоса, и часто вслух давал верные советы. Порой ни одна иголка самого лучшего изделия не могла своей остротой превзойти Скруджа, хотя он и делал вид, что малодогадлив.
Дух был очень доволен настроением Скруджа и так ласково смотрел на него, что тот, как мальчик, просил еще побыть здесь до тех пор, пока гости не разойдутся. Однако дух не согласился.
— Начинается новая игра, — сказал Скрудж. — Еще полчаса, дух.
Игра называлась «Да и нет». Все должны были отгадать то, что задумывал племянник Скруджа.
На вопрос он имел право отвечать только словами «да» и «нет». На него полился целый поток вопросов — и выяснялось, что задумал он животное, не совсем приятное, дикое, которое иногда рычит и хрюкает, иногда говорит, проживает в Лондоне и расхаживает по улицам, — животное, которого не показывают, не держат в зверинце и не предназначают на убой, которое — ни лошадь, ни осел, ни корова, ни бык, ни тигр, ни собака, ни свинья, ни кошка, ни медведь. При каждом новом вопросе, который предлагали загадавшему, он разражался звонким смехом, точно его щекотали, и в припадке такого смеха соскакивал с дивана и топал ногами.
— Угадала, знаю, Фред, что это, — воскликнула, наконец, полная девушка, сестра племянницы Скруджа, разразившись таким же смехом. — Знаю!
— Что? — воскликнул Фред.
— Ваш дядя Скрудж.
Она угадала. Все были в восторге. Некоторые, впрочем, заметили, что на вопрос: «Медведь ли это?» — надо было ответить «Да», а отрицательный ответ повел к тому, что отвлек мысли от Скруджа, хотя многие и думали о нем.
— Мы уж достаточно повеселились по его милости, — скезал Фред. — В благодарность за это удовольствие выпьем за его здоровье. Вот стакан глинтвейна. Итак: «За здоровье дяди Скруджа!»
— Прекрасно! За здоровье дяди Скруджа! — воскликнули все.
— Желаем ему радостно встретить праздник! Каков бы ни был старик Скрудж, мы желаем ему счастливого Нового года! — сказал племянник Скруджа.
Незаметно для самого себя дядя Скрудж сделался так весел, и на душе у него стало так радостно, что он, если бы дух не торопил его, с удовольствием ответил бы тостом всем присутствующим, которые и не подозревали, что он находится среди них. Но всё исчезло раньше, чем племянник Скруджа договорил последние слова. Скрудж и дух снова уже были в пути.
Чего-чего они ни видали в своих долгих странствованиях! Они посетили множество домов, всюду принося счастье; останавливались у кроватей больных — и дух облегчал их страдания, те же, которые были в чужих странах, чувствовали себя, благодаря ему, как на родине. В людей борьбы дух вселял надежды, бедные чувствовали себя в его присутствии богатыми. В богадельне, госпитале, тюрьме, в притонах нищеты, — везде, где только человек не закрывал дверей перед духом, он рассыпал свои благословения и поучал Скруджа.
Если только всё это совершилось в одну ночь, то ночь эта была очень длинна, — казалось, что она вместила в себя много рождественских ночей. Странно было то, что в то время, как Скрудж оставался таким, каким был, дух, видимо, старел. Заметив в нем эту перемену, Скрудж однако ничего не сказал о ней до того момента, как они вышли из дома, где была детская вечеринка. Тут, оставшись наедине с духом под открытым небом, он вдруг заметил, что волосы духа стали седыми.
— Разве жизнь духов так коротка? — спросил Скрудж.
— Моя жизнь кончится сегодня ночью.
— Так для тебя эта ночь последняя! — воскликнул Скрудж.
— Да, конец мой нынче в полночь. Час мой близок. Слушай.
В этот момент часы пробили три четверти двенадцатого.
— Прости за нескромный вопрос, — сказал Скрудж, внимательно присматриваясь к одежде духа. — Я вижу под твоей одеждой что-то странное, тебе несвойственное. Нога это или лапа?
— Как будто лапа, — печально ответил дух.
Из складок его одежды вышло двое детей, несчастных, забитых, страшных, безобразных и жалких. Возле ног духа они стали на колени, цепляясь за полы его плаща.
— О, человек! — воскликнул дух. — Взгляни сюда!
То были мальчик и девочка. Желтые, худые, оборванные, они, точно волчата, смотрели исподлобья, но взгляд их был несмелый, покорный. Казалось бы, прелесть и свежесть молодости должна была светиться в их чертах. Но дряхлая, морщинистая рука времени уже обезобразила их. Там, где должны были царить ангелы, таились и грозно глядели дьяволы. Никакая низость, никакая извращенность, как бы велики они ни были, не могли создать в мире подобного уродства.
Скрудж в ужасе отшатнулся. Он хотел сказать, что дети красивы, но слова сами собой замерли у него на устах, которые не осмеливались произнести подобной лжи.
— Дух, они твои? — только и мог сказать Скрудж.
— Нет, эти дети человека, — произнес дух, смотря на них. — Они не выпускают края моей одежды, взывая о защите от собственных своих родителей. Мальчик — Невежество, девочка — Нужда. Остерегайся их обоих и всех подобных им, а пуще всего мальчика, ибо на челе его начертано: гибель. Остерегайся его, если только не сотрется это роковое слово. Восстань на него! — вскричал дух. — Или же, ради своих нечистых умыслов, узаконивай его, увеличивай его силу! Но помни о конце!
— Разве у них нет крова, разве никто не протягивает им руку помощи? — воскликнул Скрудж.
— Разве не существует тюрем? — спросил дух, обращаясь к нему в последний раз. — Разве нет рабочих домов?
Колокол пробил двенадцать.
Скрудж хотел взглянуть на духа, но дух уже исчез. Когда замер последний звук колокола, Скрудж вспомнил предсказание Якова Марли и, подняв глаза, увидел величественный образ, привидение с закутанной головой, которое, точно облако тумана, подвигалось к нему.
Строфа IV
Последний дух
Призрак подходил безмолвно, медленно и важно. При его приближении Скрудж упал на колени. Что-то мрачное и таинственное рассеивал призрак вокруг себя.
Голова, лицо, вся фигура его были закутаны в черную мантию, и, если бы не оставшаяся на виду простертая вперед рука, его трудно было бы отделить от ночного мрака.
Когда призрак поравнялся со Скруджем, Скрудж заметил, что он был огромного роста, и таинственное присутствие его наполнило душу Скруджа торжественным ужасом. Призрак был безмолвен и неподвижен.
— Я вижу духа будущего Рождества? — спросил Скрудж.
Призрак не ответил, но указал рукой вперед.
— Ты покажешь мне тени вещей, которых еще нет, но которые будут? — продолжал Скрудж. — Да?
Казалось, дух наклонил голову, ибо верхний край его мантии на мгновение собрался в складки. Это был единственный ответ, который получил Скрудж. Он уже привык к общению с духами, но этот безмолвный образ вселил в него такой страх, что ноги его дрожали; он чувствовал, что едва держится на них, что не в состоянии следовать за духом. Дух помедлил мгновение, точно наблюдая за ним и давая ему время опомниться.
Но от этого Скруджу сделалось еще хуже. Безотчетный, смутный страх охватил его при мысли, что из-под этого черного покрывала на него устремлены бесплотные очи, тогда как он, сколько ни старался напрягать свое зрение, ничего не видал, кроме призрачной руки и бесформенной черной массы.
— Дух будущего! — воскликнул Скрудж. — Ты страшишь меня больше прежних духов, виденных мной. Но зная твое желание сделать меня добрым, и надеясь стать иным человеком, чем прежде, я готов с благодарностью следовать за тобой. Почему ты ничего не говоришь мне?
Дух по-прежнему молчал. Его рука была направлена вперед.
— Веди меня! — сказал Скрудж. — Веди меня! Ночь убывает, а время дорого мне — я знаю это. Веди меня, дух!
Призрак стал отдаляться от Скруджа точно так же, как и подходил к нему. В тени его мантии Скрудж последовал за ним и ему казалось, что она уносила его с собой, а город как будто сам надвигался и окружал их.
Они очутились как раз в центре города, на бирже, среди купцов, суетливо бегавших взад и вперед, звеневших деньгами, толпившихся и разговаривавших между собой, посматривавших на часы, задумчиво игравших золотыми брелками часов, — словом, они очутились в обстановке, хорошо знакомой Скруджу.
Дух остановился возле небольшой кучки купцов. Заметив, что рука духа указывала на нее, Скрудж подошел послушать разговор.
— Нет, — сказал крупный, толстый господин с громадным подбородком. — Я об этом совершенно ничего не знаю. Знаю только, то, что он умер.
— Когда же? — спросил другой. — Кажется, прошлой ночью?
— Что же случилось с ним? — спросил третий, взяв из объемистой табакерки большую щепотку табаку. — А я думал, что он никогда не умрет.
— Бог его знает, — сказал первый, зевая.
— А что он сделал с деньгами? — спросил господин с красным лицом и висячим, трясущимся, как у индюка, наростом на конце носа.
— Я не слыхал, — сказал человек с большим подбородком и опять зевнул. — Но, может быть, он завещал деньги своей гильдии? Мне он их не оставил, я это прекрасно знаю.
Эта шутка вызвала общий смех.
— Вероятно, похороны будут очень скромные, — сказал тот же самый господин. — Я не знаю никого, кто бы пошел его проводить до могилы. Честное слово! не пойти ли нам, не дожидаясь приглашения?
— Я, пожалуй, не прочь, но только в том случае, если будет завтрак, — заметил господин с наростом на носу. — Только тогда я приму участие в проводах, если меня угостят.
Снова раздался хохот.
— Чудесно! А я вот бескорыстнее вас всех, — сказал первый господин, — я никогда не носил черных перчаток и не ел похоронных завтраков. Но всё же я провожу его, если найдутся еще желающие. Мне теперь сдается, — не был ли я его близким другом, ибо, встречаясь с ним, мы обыкновенно раскланивались и перекидывались несколькими словами. Прощайте, господа! Счастливо оставаться!
Говорившие и слушавшие разбрелись и смешались с другими группами. Скрудж хорошо знал этих людей — и вопросительно взглянул на духа, ожидая объяснения того, что только что говорилось на бирже.
Но дух уже двинулся далее, по улице. Он указал пальцем на двух встретившихся людей. Стараясь и здесь найти объяснение толков на бирже, Скрудж снова прислушался. Он знал и этих людей: то были очень богатые и знатные деловые люди. Скрудж всегда дорожил их мнением, конечно, в сфере чисто деловых отношений.
— Как поживаете? — сказал один из них.
— А вы как? — спросил другой.
— Хорошо, — сказал первый. — Старый хрыч, так-таки допрыгался.
— Я слышал, — ответил второй. — А холодно, не правда ли?
— По-зимнему, ведь Рождество! Вы не катаетесь на коньках?
— Нет. Нет, мне не до того! Мне и кроме этого есть о чем подумать! До свидания!
Сначала Скрудж удивился, почему дух придавал такую важность столь пустым, по-видимому, разговорам, но, чувствуя, что в них кроется какой-то особенный смысл, задумался. Трудно было допустить, что разговор шел о смерти его старого компаньона Якова Марли, ибо то относилось к области прошлого; здесь же было царство духа будущего. Он не мог вспомнить никого из своих знакомых, кто был бы связан непосредственно с ним и к кому он мог бы отнести их разговор. Но нисколько не сомневаясь, что, к кому бы он ни относился, в нем скрывается тайный смысл, клонящийся к его же собственному благу, он старался сохранить в памяти каждое слово, — всё, что видел и слышал. Он решил тщательно наблюдать за своим двойником, как только тот появится, надеясь, что поведение его двойника послужит руководящей нитью к разъяснению всех загадок.
Он оглядывался вокруг себя, ища взорами своего двойника. Но в том углу, где обычно стоял Скрудж, был другой человек, часы же показывали как раз то время, когда должен был быть там Скрудж. Притом в толпе, которая стремительно входила в ворота, он не заметил ни одного человека, похожего на него самого. Однако, это мало удивило его, ибо, решившись изменить образ жизни, он свое отсутствие здесь объяснял осуществлением своих новых планов.
Протянув вперед руку, стоял сзади него спокойный мрачный призрак. Очнувшись от сосредоточенной задумчивости, Скрудж почувствовал, по повороту руки призрака, что его невидимые взоры были пристально устремлены на него. Скрудж содрогнулся, точно от холода.
Покинув бойкое торговое место, они отправились в смрадную часть города, куда Скрудж никогда не проникал прежде, хотя и знал ее местоположение и дурную славу, которой она пользовалась. Улицы были грязны и узки, лавки и дома жалки, люди полуодеты, пьяны, безобразны, обуты в стоптанную обувь. Закоулки, проходы в ворота, места под арками, словно помойные стоки, изрыгали зловоние, грязь и толпы людей. Ото всего квартала так и веяло пороком, развратом и нищетой.
В глубине этого гнусного вертепа находилась низкая, вросшая в землю, с покосившейся крышей и навесом, лавчонка, — лавчонка, в которой скупали железо, старое тряпье, бутылки, кости и всякий хлам. Внутри нее, на полу, были навалены кучи ржавых гвоздей, ключей, цепей, дверных петель, пил, весов, гирь и всякого скарба. Мало охотников нашлось бы узнать те тайны, которые скрывались здесь под грудами безобразного тряпья, под массами разлагающегося сала и костей. Среди всего этого, возле печки, топившейся углем и сложенной из старых кирпичей, сидел торговец — седой, старый, семидесятилетний плут. Защитившись от холода грязной занавеской, сшитой из разных лохмотьев и висевшей на веревке, он курил трубку, наслаждаясь мирным уединением.
Скрудж и дух вошли в лавку одновременно с женщиной, тащившей тяжелый узел; почти следом за ней и тоже с узлом в лавку вошла другая женщина, а по пятам за ней вошел человек в полинялой черной паре. Увидав и узнав друг друга, они остолбенели. Затем, после нескольких мгновений смущения и удивления, которым охвачен был и сам хозяин, державший трубку в руке, все разразились смехом.
— Позвольте поденщице быть первой, — сказала прежде всех вошедшая женщина. — Прачка пусть будет второй, а слуга гробовщика — третьим. Каково, старик Джо! Нежданно-негаданно мы все трое встретились здесь.
— Место, как нельзя более подходящее, — сказал старик Джо, вынимая трубку изо рта. — Но идем в гостиную! Вы знаете, что вы там с давних пор свой человек, да и те двое не чужие. Подождите, я затворю дверь в лавку. Ах, как она скрипит! Мне кажется, что в моей лавке нет ни одного куска железа более заржавленного, чем ее петли, и, я уверен, что нет ни единой кости старее моих; ха, ха! Наша профессия и мы сами — мы сто́им друг друга. Но в гостиную! Идемте же!
Гостиной называлось отделение за занавеской, сшитой из тряпок. Старик сгреб угли в кучу старым железным прутом, бывшим когда-то частью перил лестницы и, оправив коптящую лампочку (была ночь) чубуком своей трубки, снова взял ее в рот.
В то время, когда, он делал это, говорившая до этого женщина бросила свой узел на пол и развязно уселась на стул, положив руки на колени, нахально и вызывающе смотря на прочих.
— Ну, что из того? Что из того, мисс Дильбер! — сказала женщина. — Каждый человек имеет право заботиться о самом себе. Он так и делал всегда.
— Это совершенно верно, — сказала прачка. — Но, кажется, никто не воспользовался этим правом в большей степени, чем он.
— Ну, чего вы таращите глаза друг на друга, точно друг друга боитесь? Кто знает об этом? Кажется, нам нет смысла строить друг другу каверзы.
— Конечно, — сказали в один голос Дильбер и слуга гробовщика. — Конечно!
— Ну, и отлично, — воскликнула женщина. — Довольно об этом. Кому станет хуже от того, что мы кое-что взяли? Не мертвецу же!
— Разумеется, — сказала Дильбер, смеясь.
— Если этот скаред хотел сохранить все эти вещички после смерти, — продолжала женщина, — то почему при жизни он никому не делал добра: ведь если бы он был подобрее, наверное нашелся бы кто-нибудь, кто приглядел бы за ним при кончине, не оставил бы его одиноким при последнем издыхании.
— Нет слов справедливее этих! — сказала Дильбер. — Вот и наказание ему.
— Было бы даже лучше, если бы оно было потяжелее! — ответила женщина. — Оно и было бы таковым, поверьте мне, если бы только я могла забрать еще что-нибудь. Развяжите узел, старик Джо и назначьте цену за вещи. Говорите начистоту. Я не боюсь того, что вы развяжете мой узел первым, а они увидят содержимое его. Кажется, мы довольно хорошо знаем занятия друг друга еще и до встречи здесь. В этом нет греха. Развязывайте узел, Джо.
Но деликатность ее сотоварищей не позволила этого, и человек в черной слинявшей паре отважился первым показать награбленную добычу: ее было немного. Одна или две печати, серебряный карандаш, пара запонок и дешевенькая булавка для галстука — вот и всё! Старик Джо рассматривал и оценивал каждую вещь в отдельности, мелом записывая на стене сумму, которую рассчитывал дать за каждую вещь.
Кончив дело, он подвел итог.
— Вот! — сказал Джо. — Я не прибавлю и шести пенсов, даже если б меня живьем сварили в кипятке. Теперь чья очередь?
Следующей была мистрис Дильбер. У нее было несколько простынь, полотенец, немного носильного платья, одна или две старомодных чайных серебряных ложки, сахарные щипцы и несколько сапог.
Ее счет записывался на стене тем же порядком.
— Женщинам я даю всегда очень дорого. Это моя слабость, и она вконец разорит меня, — сказал старик Джо. — Вот ваш счет. Если вы будете настаивать на прибавке даже в один пенни, я раскаюсь в своей щедрости и вычту полкроны.
— А теперь развяжите мой узел, Джо, — сказала первая женщина.
Чтобы развязать его, Джо для большего удобства опустился на колени и, развязав множество узлов, вытащил большой тяжелый сверток какой-то темной материи.
— Что это? — спросил Джо. — Постельные занавески?
— Да, — ответила женщина со смехом, наклоняясь. — Постельные занавески!
— Неужели ты хочешь сказать, что ты сняла их вместе с кольцами, когда он еще лежал на кровати? — спросил Джо.
— Разумеется, — ответила женщина. — А почему бы мне и не снять их?
— Тебе на роду написано быть богатой, — сказал Джо, — и ты, наверное, добьешься этого.
— Раз представляется случай что-нибудь взять, да еще у такого человека, я стесняться не стану! — возразила женщина хладнокровно. — Не капните маслом на одеяло.
— Разве это его одеяло? — спросил Джо.
— А чье же еще, вы думаете? — ответила женщина. — Небось, не простудится и без одеяла.
— Надеюсь, он умер не от какой-либо заразной болезни? — спросил старик Джо, оставляя работу и смотря на нее.
— Не беспокойтесь, — возразила женщина. — Не такое уж удовольствие доставляло мне его общество, не стала бы я из-за этого хлама долго возиться с ним, если бы он действительно умер от такой болезни. Разглядывайте сколько угодно, не найдете ни одной дыры, ни одного потертого места. Это — самая лучшая и самая тонкая из всех его рубашек. Не будь меня, она так бы и пропала зря!
— Что вы этим хотите сказать? Почему пропала бы? — спросил старик Джо.
— Наверное, ее надели бы на него и похоронили бы в ней, — отвечала женщина со смехом. — Да и нашелся было такой дурак, который сделал это, но я снова сняла ее. Если и коленкор не хорош для этой цели, то на что же после этого он годен! Коленкор очень идет к покойнику, и авось он не станет хуже в коленкоре, чем в этой рубашке.
Скрудж с ужасом слушал этот разговор. Когда все грабители собрались вокруг своей добычи при тусклом свете лампочки старика, он с омерзением и отвращением смотрел на них, он не чувствовал бы себя лучше, даже если бы сами демоны торговали его трупом.
— Ха, ха! — смеялась та же женщина, когда старый Джо выложил фланелевый мешок с деньгами и стал считать, сколько приходится каждому. — Вот и развязка! Всю жизнь он скряжничал, словно для того, чтобы после своей смерти дать нам поживиться. Ха, ха, ха!
— Дух, — сказал Скрудж, дрожа всем телом. — Я вижу, вижу. Участь того несчастного может быть и моей. Мне не избежать ее! Но, боже милосердный! Что это?
Он отшатнулся в ужасе, ибо сцена изменилась, и он очутился возле голой, незанавешенной постели, на которой, под изорванным одеялом, лежало что-то, говорившее своим молчанием больше, чем словами.
Комната была настолько темна, что ее почти невозможно было рассмотреть, хотя Скрудж, повинуясь какому-то тайному влечению, внимательно разглядывал окружающее, стараясь определить, что это за комната. Бледный свет, проникавший снаружи, падал прямо на кровать, на которой лежал забытый, ограбленный, беспризорный и неоплаканный труп.
Скрудж смотрел на духа. Его неподвижная рука указывала на голову. Покров был накинут так небрежно, что достаточно было легкого прикосновения, чтобы он спал с лица. Скрудж подумал о том, как легко это сделать, томился желанием сделать это, но не имел силы откинуть покрывала, равно как и удалить призрак, стоявший рядом с ним.
О, смерть, суровая, ледяная, ужасная, воздвигни здесь свой алтарь и облеки его таким ужасом, каким только можешь, ибо здесь твое царство! Но по твоей воле не спадет и единый волос с головы человека, заслужившего любовь и почет. Ты не в силах, ради страшных целей своих, внушить отвращение к чертам лица его, хотя рука его тяжела и падает, когда ее оставляют, хотя прекратилось биение сердца его и замер пульс; эта рука была верна, честна, открыта; это сердце было правдиво, тепло и нежно, этот пульс бился по-человечески. Рази, убивай! Ты увидишь, как из ран прольется кровь его добрых дел и взрастит в мире жизнь вечную!
Никто не сказал Скруджу этих слов, но он слышал их, когда смотрел на кровать. Он думал о том, каковы были бы первые мысли этого человека, если бы он встал теперь. Алчность, страсть к наживе, притеснение ближнего? Поистине, к великолепному концу они привели его!
Он лежал в темном, пустом доме, всеми покинутый, не было ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка, которые сказали бы: он был добр к нам, и мы заплатим ему тем же. Кошка царапалась в дверь, а под каменным полом, под камином что-то грызли крысы. Почему они старались проникнуть в комнату покойника, почему они были так неугомонны и беспокойны, — об этом Скрудж боялся и думать.
— Дух, — сказал он, — здесь страшно. — Поверь, оставив это место, я не забуду твоего урока. Уйдем отсюда!
Но дух указал на голову трупа.
— Понимаю тебя и сделал бы это, — сказал Скрудж, — но не могу. Не имею силы, дух, не имею.
И снова ему показалось, что призрак смотрит на него.
— Есть ли хоть один человек в городе, который сожалеет о кончине этого несчастного? — спросил Скрудж, изнемогая. — Покажи мне такого, дух.
Призрак раскинул перед ним на мгновение черную мантию, подобно крылу, и, открыв ее, показал комнату при дневном свете, — комнату, где была мать с детьми. Она тревожно ожидала кого-то, расхаживая взад и вперед по комнате и вздрагивая при малейшем звуке, смотря то в окно, то на часы. Несмотря на все усилия, она не могла приняться за иглу и едва переносила голоса играющих детей.
Наконец, услышав давно ожидаемый стук, она поспешно подошла к двери и встретила своего мужа. Это был еще молодой человек, но лицо его уже носило отпечаток утомления, забот и горя. Выражение его лица светилось какой-то радостью, которой он, по-видимому, стыдился, которую он старался подавить.
Он сел за обед, подогревавшийся для него, и когда она, после долгого молчания, нежно спросила, какие новости, он, казалось, затруднился, что ответить.
— Хорошие или дурные? — спросила она, желая вывести его из этого затруднения.
— Дурные, — ответил он.
— Мы разорены вконец?
— Нет, еще осталась надежда, Каролина.
— Если он смилостивится, — сказала пораженная женщина, — то, конечно, еще не всё пропало, если бы случилось такое чудо, осталась бы некоторая надежда.
— Ему уже теперь не до того: он, умер, — сказал ее муж.
Судя по выражению лица, Каролина была кротким, терпеливым существом — и все-таки она не могла скрыть своей радости при этом известии. Но в следующее мгновение она уже раскаялась, подавив голос сердца.
— Значит, это правда, — то, что вчера вечером сказала мне эта полупьяная женщина, — я о ней уже рассказывала тебе, — когда я хотела повидаться с ним и попросить отсрочки на неделю. Значит, это была не простая отговорка, не желание отделаться от меня, но совершеннейшая правда. Он был не только болен, он лежал при смерти. К кому же перейдет наш долг?
— Я не знаю. Я думаю, мы еще успеем приготовить деньги к сроку. Едва ли его преемник окажется столь же безжалостным кредитором. Мы можем спокойно спать, Каролина.
Да. Как ни старались они скрыть своих чувств, они все-таки испытывали облегчение. Лица притихших, собравшихся в кучку послушать непонятный для них разговор детей повеселели. Смерть этого человека осенила счастьем этот дом. Единственное чувство, вызванное этой смертью, было чувство радости.
— Если ты хочешь, чтобы эта мрачная комната изгладилась из моей памяти, — сказал Скрудж, — покажи мне, дух, такого человека, который сожалел бы о смерти покойника.
Дух повел его по разным знакомым ему улицам. Проходя по ним, Скрудж всматривался во всё, стараясь найти своего двойника, но нигде не видел его. Они вошли в дом бедняка Крэтчита, где они уже однажды были. Мать и дети сидели вокруг огня. Было тихо.
Очень тихо. Маленькие шалуны Крэтчиты сидели в углу тихо и неподвижно, точно статуэтки, глядя на Петра, державшего перед собой книгу. Мать и дочери, занятые шитьем, тоже были как-то особенно тихи.
«И он взял ребенка и поставил его посреди них».
Где слышал Скрудж эти слова? Не приснились же они ему? Наверное, мальчик прочел их, когда они переступили порог. Почему же он не продолжает?
Мать положила работу на стол и подняла руки к лицу.
— Этот цвет раздражает мои глаза, — сказала она. — Ах, бедный, маленький Тим! Теперь лучше, — сказала жена Крэтчита. — Я хуже вижу при свете свечей. Мне очень не хочется, чтобы ваш отец, придя домой, заметил, что глаза мои так утомлены.
— Давно бы пора ему придти, — ответил Петр, закрывая книгу. — Мне кажется, что несколько последних вечеров он ходит медленнее, чем обыкновенно.
Снова воцарилось молчание. Наконец, жена Крэтчита сказала твердым веселым голосом, который вдруг оборвался.
— Я знаю, что он… Помню, бывало, и с Тайни-Тимом на плече он ходил быстро.
— И я помню это, — воскликнул Петр.
— И я, — отозвался другой. — Все видели это.
— Но он был очень легок, — начала она снова, усердно занимаясь работой, — и отец так любил его, что для него не составляло труда носить его. А вот и он!
И она поспешила навстречу маленькому Бобу, закутанному в свой неизменный шарф.
Приготовленный к его возвращению чай подогревался у камина, и все старались прислуживать Бобу, кто чем мог. Затем два маленьких Крэтчита взобрались к нему на колени, и, каждый из них приложил маленькую щечку к его щеке, как бы говоря: не огорчайся, папа! Боб был очень весел и радостно болтал со всеми. Увидев на столе работу, он похвалил мистрис Крэтчит и девочек за усердие и быстроту; они, наверное, кончат ее раньше воскресения.
— Воскресения! Ты уже был там сегодня, Роберт? — сказала мистрис Крэтчит.
— Да, дорогая, — отозвался Боб. — Жаль что ты не могла пойти туда, у тебя отлегло бы на сердце при виде зеленой травы, которой заросло то место. Да ты еще увидишь его. Я обещал приходить туда каждое воскресение. Мой бедный мальчик, мое бедное дитя!
Он не в силах был удержать рыданий. Может быть, он и удержал бы их, да уж слишком любили они друг друга!
Выйдя из комнаты, он поднялся по лестнице наверх, в комнату, украшенную по-праздничному. Возле постели ребенка стоял стул и были заметны следы недавнего пребывания людей. Немного успокоившись, Боб сел на стул и поцеловал маленькое личико. Он примирился с тем, что случилось, и пошел вниз успокоенный.
Все придвинулись к камину, и потекла беседа. Девочки и мать продолжали работать. Боб рассказывал о чрезвычайной доброте племянника Скруджа, которого он видел только один раз. «Да, только раз, и однако, встретив меня после этого на улице, — говорил Боб, — и заметив, что я расстроен, он тотчас же осведомился, что такое со мной случилось, что так огорчило меня. И я, — сказал Боб, — я всё рассказал ему, ибо это необыкновенно славный человек. 'Я очень сожалею об этом, мистер Крэтчит, — сказал он, — и душевно сочувствую горю вашей доброй супруги». Впрочем, я удивляюсь, откуда он знает всё это?
— Что, мой дорогой?
— Что ты добрая, прекрасная жена!
— Всякий знает это, — сказал Петр.
— Ты сказал хорошо, мой мальчик, — воскликнул Боб. — Надеюсь, это сущая правда. «Сердечно сочувствую вашей доброй жене. Если я могу быть чем-нибудь полезен вам, — сказал он, — то вот мой адрес. Пожалуйста, навестите меня!» Это восхитительно, и прежде всего не потому, что он может принести нам какую-либо пользу, восхитительна прежде всего его любезность: он как будто знал нашего Тима и разделял наши чувства.
— Он, вероятно, очень добр, — сказала мистрис Крэтчит.
— Ты еще более убедилась бы в этом, дорогая, — ответил Боб, — если бы видела его и поговорила с ним. Меня, заметь, нисколько не удивит, если он даст Петру лучшее место.
— Слышишь, Петр? — сказала мистрис Крэтчит.
— А потом Петр найдет себе невесту, — воскликнула одна из девочек. — И обзаведется своим домком.
— Отстань, — ответил Петр, улыбаясь.
— Это всё еще в будущем, — сказал Боб, — для этого еще довольно времени. Но когда бы мы ни расстались друг с другом, я верю, что ни один из нас не забудет бедного Тима. Не правда ли?
— Никогда, отец, — вскричали все.
— Я знаю, — сказал Боб, — знаю, дорогие мои, что когда мы вспомним, как кроток и терпелив он был, будучи еще совсем маленьким, мы не будем ссориться в память о нем, не забудем бедного Тима.
— Никогда, отец, никогда, — снова закричали все.
— Я очень счастлив, — сказал маленький Боб, — я очень счастлив.
Мистрис Крэтчит, дочери и два маленьких Крэтчита поцеловали его, а Петр пожал ему руку.
— Дух, — сказал Скрудж, — мы должны скоро расстаться — я знаю это. — Но я не знаю, как это будет? Скажи мне, кто тот покойник?
Дух будущего Рождества снова повел его вперед, как вел и прежде, хотя, казалось, время изменилось: действительно, в видениях уже не было никакой последовательности, кроме того, что все они были в будущем. Они были среди деловых людей, но там Скрудж не видел своего двойника. Дух упорно, не останавливаясь, шел вперед, точно преследуя какую-то цель, пока, Скрудж не попросил его остановиться хотя на одно мгновение.
— Двор, по которому мы мчимся так быстро, был местом, где я долгое время работал, — сказал Скрудж. — Я вижу дом. Позволь мне посмотреть, что станет со мной в будущем.
Дух остановился, но рука его была простерта в другую сторону.
— Ведь вот дом, — воскликнул Скрудж. — Почему же ты показываешь не на него?
Но рука духа оставалась неподвижна.
Скрудж быстро подошел к окну своей конторы и заглянул в нее. Сама комната, ее обстановка были те же, что и прежде, но сидевший на стуле человек был не он. Однако призрак неизменно указывал в том же направлении.
Скрудж снова обернулся к нему, не понимая, куда и зачем ведут его, но покорился и следовал за духом до тех пор, пока они не достигли железных ворот.
Кладбище. Здесь под плитой лежал тот несчастный, имя которого предстояло узнать Скруджу. Это было место, достойное его. Оно было окружено домами, заросло сорной травой и другой растительностью — не жизни, а смерти, пресыщенной трупными соками. Да, поистине достойное место!
Дух стоял посреди могил и указывал на одну из них.
С дрожью во всем теле Скрудж приблизился к ней. Призрак оставался тем же, но Скрудж теперь боялся его, видя что-то новое во всей его величественной фигуре.
— Прежде чем я подойду к этому камню, на который ты указываешь, — сказал Скрудж, — ответь мне на один вопрос. Это тени будущих вещей или же тени вещей, которые могут быть?
Дух указал на могилу, возле которой стоял Скрудж.
— Пути жизней человеческих предопределяют и конец их, — сказал Скрудж. — Но ведь если пути изменятся, то изменится и конец. Скажи, согласуется ли это с тем, что ты показываешь?
Дух был по-прежнему недвижим.
Скрудж, дрожа, подполз к могиле, следуя указанию пальца духа и прочитал на камне заброшенной могилы свое имя:
«Эбензар Скрудж».
— Но неужели человек, лежавший на кровати, — я? — воскликнул Скрудж, стоя на коленях.
Палец попеременно указывал то на него, то на могилу.
— Нет, дух, нет!
Палец указывал в том же направлении.
— Дух, — воскликнул Скрудж, крепко хватаясь за одежду духа, — выслушай меня. Я уже не тот, каким был. Я не хочу быть таким, каким был до общения с тобою! Зачем ты показываешь всё это, раз нет для меня никакой надежды на новую жизнь?
Казалось, рука дрогнула — в первый раз.
— Добрый дух, — продолжал Скрудж, стоя перед ним на коленях. — Ты жалеешь меня. Не лишай же меня веры в то, что я еще могу, исправившись, изменить тени, которые ты показал мне!
Благостная рука снова дрогнула.
— Всем сердцем моим я буду чтить Рождество, и воспоминание о нем буду хранить в сердце круглый год! Я буду жить прошлым, настоящим и будущим! Воспоминание о духах будет всегда живо во мне, я не забуду их спасительных уроков. О, скажи мне, что я еще могу стереть начертанное на этом камне!
В отчаянии Скрудж схватил руку призрака. Тот старался высвободить ее, но Скрудж держал ее настойчиво, крепко. Но дух оттолкнул его от себя. Простирая руки в последней мольбе, Скрудж вдруг заметил какую-то перемену в одеянии духа. Дух сократился, съежился, — и Скрудж увидел столбик своей кровати.
Строфа V
Эпилог
Да, это был столбик его собственной кровати. И комната была его собственная. Лучше же всего, радостнее всего было то, что будущее тоже принадлежало ему — он мог искупить свое прошлое.
— Я буду жить прошлым, настоящим и будущим! — повторял Скрудж, слезая с кровати. — В моей душе всегда будет живо воспоминание о всех трех духах. О, Яков Марли! Да будут благословенны Небо и Рождество! Я произношу это на коленях, старый Марли, на коленях!
Он был так взволнован и возбужден желанием поскорее осуществить на деле свои добрые намерения, что его голос почти отказался повиноваться ему. Лицо его было мокро от слез, — ведь он так горько плакал во время борьбы с духом.
— Они целы! — вскричал Скрудж, хватаясь за одну из занавесок кровати. — Всё цело — я их увижу, — всего того, что могло быть, не будет! Я верю в это!
Он хотел одеться, но надевал платье наизнанку, чуть не разрывал его, забывал, где что положил, — проделывал всякие дикие штуки.
— Я не знаю, что делать! — вскричал Скрудж, смеясь и плача, возясь со своими чулками, точно Лаокоон со змеями. — Я легок, как перо, счастлив, как ангел, весел, как школьник! Голова кружится, как у пьяного. С радостью всех! С праздником! Счастливого Нового года всему миру! Ура! Ура!
Вбежав вприпрыжку в приемную, он остановился, совершенно запыхавшись.
— Вот и кастрюлька с овсянкой! — вскричал он, вертясь перед камином. — Вот дверь, через которую вошел дух Якова Марли! Вот окно, в которое я смотрел на реющих духов. Всё как и должно быть, всё, что было, — было. Ха, ха, ха!
Он смеялся, — и для человека, который не смеялся столько лет, этот смех был великолепен, чудесен. Он служил предвестником чистой, непрерывной радости.
— Но какое число сегодня? — сказал Скрудж. — Долго ли я был среди духов? Не знаю, не знаю ничего. Я точно младенец. Да ничего, это не беда! Пусть лучше я буду младенцем! Ура! Ура! Ура!
Громкий, веселый перезвон церковных колоколов, — такой, которого он никогда не слыхал раньше, вывел его из восторженного состояния. Бим, бом, бам. Дон, динь, дон! Бим, бом, бам. О, радость, радость!
Подбежав к окну, он открыл его и высунул голову. Ни тумана, ни мглы! Ярко, светло, радостно, весело, бодро и холодно! Мороз, от которого играет кровь! Золотой блеск солнца! Безоблачное небо, свежий сладкий воздух, веселые колокола! Как дивно хорошо! Как великолепно всё!
— Какой день сегодня? — воскликнул Скрудж, обращаясь к мальчику в праздничном костюме, который зазевался, глядя на него.
— Что? — спросил сильно удивленный мальчик.
— Какой у нас сегодня день, мой друг? — спросил Скрудж.
— Сегодня? — ответил мальчик. — Вот тебе раз! Рождество, конечно!
— Рождество! — сказал Скрудж самому себе. — Значит, я не пропустил его. Духи всё сделали в одну ночь. Они всё могут, всё, что захотят. Разумеется, всё. Ура, дорогой друг.
— Ура! — отозвался мальчик.
— Знаешь ли ты лавку, на соседней улице на углу, где торгуют битой птицей? — спросил Скрудж.
— Еще бы не знать! — ответил мальчик.
— Умник! — сказал Скрудж. — Замечательный мальчик! Так вот, не знаешь ли ты, продана или нет индейка, висевшая вчера там, — та, что получила приз на выставке? Не маленькая индейка, а большая, самая большая?
— Это та, что с меня величиной? — спросил мальчик.
— Какой удивительный ребенок! — сказал Скрудж. — Приятно говорить с ним! Да, именно та, дружок!
— Нет, еще не продана, — сказал мальчик.
— Да? — воскликнул Скрудж. — Ну, так ступай и купи ее.
— Вы шутите?
— Нет-нет, — сказал Скрудж. — Нисколько. Ступай и купи ее. И, скажи, чтобы ее доставили сюда, а там я скажу, куда ее отнести. Вернись сюда вместе с приказчиком, который понесет индейку. За работу получишь шиллинг. Если же вернешься раньше, чем через пять минут, я дам тебе полкроны.
Мальчик полетел, как стрела из лука, да с такой быстротой, с которой не пустил бы ее и самый искусный стрелок.
— Я пошлю ее Бобу Крэтчиту, — прошептал Скрудж, потирая руки и разражаясь смехом.
— И он так и не узнает, кто ее прислал. Она вдвое больше Тайни-Тима. Джо Миллер никогда бы не придумал подобной штуки — послать Бобу индейку!
Почерк, которым он писал адрес, был нетверд. Написав кое-как, Скрудж спустился вниз по лестнице, чтобы открыть дверь и встретить лавочника. Ожидая его, он остановился. Молоток попался ему на глаза.
— Всю жизнь буду любить его! — воскликнул Скрудж, потрепав его. — А прежде я почти не замечал его. Какое честное выражение лица! Удивительный молоток! А вот и индейка! Ура! Как поживаете? С праздником!
Ну, и индейка! Вряд ли эта птица могла стоять на ногах? Они мгновенно переломились бы, как сургучные палки!
— Да, ее невозможно будет отнести в Камден-Таун! — воскликнул Скрудж. — Придется нанять извозчика.
Со смехом говорил он это, со смехом платил за индейку, со смехом отдал деньги извозчику, со смехом наградил мальчика — и всё это кончилось таким припадком хохота, что он был принужден сесть на стул, едва переводя дух, хохоча до слез, до колик.
Выбриться теперь, когда так сильно дрожали руки, было нелегко: бритье требует внимания даже и тогда, когда вы совершенно спокойны. Ну, да и то не беда — если он сбреет кончик носа, можно будет наложить кусочек липкого пластыря, и дело в шляпе!
Одевшись в самое лучшее платье, Скрудж вышел, наконец, на улицу. Толпа народа сновала так же, как и во время его скитаний с духом нынешнего Рождества. Заложив руки назад, Скрудж с радостной улыбкой смотрел на каждого. Выражение его лица было так приветливо, что трое добродушных прохожих сказали ему: «Доброго утра, сэр! С праздником!» — и впоследствии Скрудж часто говорил, что из всего, что он когда-либо слышал, это было самое радостное.
Сделав несколько шагов, он встретился с пожилым представительным господином, приходившим вчера в его контору и сказавшим ему: «Скрудж и Марли, не так ли?» — и что-то кольнуло его в сердце, когда он подумал, как-то взглянет он на него. Всё же он отлично знал теперь, что́ надо делать, и прямо подошел к нему.
— Дорогой сэр, — сказал Скрудж, ускоряя шаги и беря господина под руку. — Как поживаете? Полагаю, что вы поработали успешно. Как это хорошо с вашей стороны. Поздравляю вас с праздником!
— Мистер Скрудж?
— Да, — ответил Скрудж. — Меня зовут Скруджем, но я боюсь, что это неприятно вам. Позвольте попросить у вас извинения. Будьте так добры… — И тут Скрудж шепнул ему что-то на ухо.
— Боже мой! — воскликнул господин, с трудом переводя дух. — Вы не шутите, дорогой Скрудж?
— Нет, нет, — сказал Скрудж. — И ни полушки менее! За мной много долгов, с которыми я и хочу теперь расплатиться. Прошу вас!
— Дорогой сэр! — сказал господин, пожимая ему руку. — Не знаю, как и благодарить вас за такую щедрость.
— Ни слова больше, пожалуйста, — быстро возразил Скрудж. — Не откажитесь навестить меня. Навестите? Да?
— С удовольствием! — воскликнул господин и таким тоном, что было ясно, что он исполнит свое обещание.
— Благодарю вас, — сказал Скрудж. — Я многим обязан вам. Бесконечно благодарен вам.
Он зашел в церковь, а затем бродил по улицам, присматриваясь к людям, торопливо сновавшим взад и вперед, заговаривал с нищими, ласково гладил по голове детей, заглядывал в кухни и в окна домов, — и всё это доставляло ему радость. Ему и во сне не снилось, что подобная прогулка могла доставить столько радости! В полдень он направился к дому своего племянника.
Но прежде чем он отважился постучать и войти, он раз двенадцать прошел мимо двери. Наконец, стремительно схватился за молоток.
— Дома ли хозяин, милая? — сказал он горничной! — Какая вы славная! Просто прелесть!
— Дома, сэр.
— А где, милая моя?
— Он в столовой, сэр, вместе с барыней. Я провожу вас, если вам угодно.
— Благодарю. Он знает меня, — сказал Скрудж, берясь за дверь в столовую.
Он тихо отворил и украдкой заглянул в комнату. Хозяева осматривали обеденный стол, накрытый очень парадно, ибо ведь молодые в этом отношении очень взыскательны, очень любят, чтобы всё было как у людей.
— Фред, — сказал Скрудж.
Батюшки мои, как вздрогнула при этих словах его племянница. Он совершенно забыл, что она сидела в углу, поставив ноги на скамейку, иначе он не сказал бы этого.
— С нами крестная сила! — воскликнул и Фред. — Кто это?
— Это я. Твой дядя Скрудж. Я пришел обедать. Можно войти, Фред?
Можно ли войти! Ему чуть не оторвали руку! Не прошло и пяти минут, как Скрудж почувствовал себя уже совсем как дома. Нельзя было и представить более радушного приема. И племянница не отставала в любезности от мужа. Да не менее любезны были и пришедшие вслед за Скруджем Топпер и полная девушка, сестра племянницы, не менее любезны были и все остальные гости. Какая славная составилась компания! Какие затеялись игры! Какая царила радость, какое единодушие!
На следующее утро Скрудж рано пришел в свою контору. О, да, ранехонько! Непременно надо было придти раньше Боба Крэтчита и уличить его в опоздании. Этого он хотел больше всего — и так оно вышло. Да. Часы пробили девять. Боба нет. Прошло еще четверть часа. Боба нет. Он опоздал на целых восемнадцать с половиной минут! Скрудж сидел, широко растворив дверь, чтобы видеть, как войдет Боб в свою каморку.
Прежде чем отворить дверь, Боб снял шляпу, а затем и шарф. В одно мгновение он был на своем стуле и заскрипел пером с необыкновенной поспешностью.
— Гм! — проворчал Скрудж, стараясь придать своему голосу обычный тон. — Что значит, что вы являетесь в такую пору?
— Я очень огорчен, сэр, — сказал Боб. — Я опоздал.
— Опоздал? Я думаю! Потрудитесь пожаловать сюда, сэр. Прошу вас!
— Это случается только раз в год, — сказал Боб, выходя из каморки. — Этого не повторится больше. Вчера я немного засиделся, сэр.
— А я, мой друг, хочу сказать вам следующее, — сказал Скрудж. — Я не могу более терпеть этого. А потому, — продолжал он, соскакивая со стула и давая Бобу такой толчок в грудь, что тот отшатнулся назад, в свою каморку, — я прибавляю вам жалования!
Боб задрожал и сунулся к столу, к линейке. У него мелькнула мысль ударить ею Скруджа, схватить его, позвать на помощь народ со двора и отправить его в сумасшедший дом.
— С праздником! С радостью, Боб! — сказал Скрудж с серьезностью, не допускавшей ни малейшего сомнения, и потрепал его по плечу. — С праздником, дорогой мой, но не таким, какие я устраивал вам раньше: я прибавлю вам жалованья и постараюсь помочь вашей бедной семье. Об этом мы еще поговорим сегодня после обеда за чашкой дымящегося пунша. Прибавьте огня и купите другой ящик для угля. И не медля, Боб Крэтчит, не медля ни минуты!
Скрудж сдержал свое слово. Он сделал гораздо более того, что обещал. Для Тайни-Тима, который остался жив, он стал вторым отцом.
Он сделался совершенно другим — добрым другом, добрым хозяином и добрым человеком, таким добрым, которого вряд ли знал какой-либо добрый старый город в доброе старое время.
Некоторые смеялись, видя эту перемену, но он мало обращал на них внимания: он был достаточно мудр и знал, что есть немало людей на земле, осмеивающих вначале всё хорошее. Знал, что такие люди всё равно будут смеяться, и думал, что пусть лучше смеются они на здоровье, чем плачут. С него было достаточно и того, что у него самого было радостно и легко на душе.
Больше он уже не встречался с духами, но всю свою последующую жизнь помнил о них. Про него говорили, что он, как никто, встречает праздник Рождества. И хорошо, если бы так говорили о каждом из нас, да, о каждом из нас! И да благословит господь каждого из нас, как говорил Тайни-Тим.
Перевод Александра Пушешникова, 1912